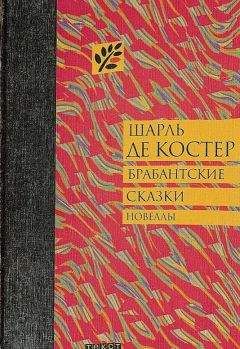– Ну так слушай же, – сказал книгопечатник. – Возьми эту сложенную игральную карту, поди в Дендермонде[160] и постучи два раза сильно и один раз тихо в дверь дома, который вот тут нарисован. Тебе откроют и спросят, не трубочист ли ты, а ты на это скажи, что ты худ и карты не потерял. И покажи карту. А потом, Тиль, исполни свой долг. Черные тучи надвигаются на землю Фландрскую. Тебе покажут каминную трубу, заранее приготовленную и вычищенную. Там ты найдешь упоры для ног и накрепко прибитую дощечку для сиденья. Когда тот, кто тебе отворит, велит лезть в трубу – полезай и сиди смирно. В комнате, у камина, где ты будешь сидеть, соберутся важные господа[161] . Господа эти – Вильгельм Молчаливый (принц Оранский), графы Эгмонт, Горн, Гоохстратен[162] и Людвиг Нассауский, доблестный брат Молчаливого. Мы, реформаты, должны знать, что эти господа могут и хотят предпринять для спасения родины.
И вот первого апреля Уленшпигель, исполнив все, что ему было приказано, засел в каминной трубе. Он с удовлетворением заметил, что в камине огня не было. «А то дым мешал бы слушать», – подумал он.
Не в долгом времени дверь распахнулась, и его просквозило ветром. Но он и это снес терпеливо, утешив себя тем, что ветер освежает внимание.
Затем он услышал, как в комнату вошли принц Оранский, Эгмонт и другие. Они заговорили о своих опасениях, о злобе короля, о том, что в казне пусто, несмотря на лихие поборы. Один из них говорил резко, заносчиво и внятно – то был Эгмонт, и Уленшпигель сейчас узнал его. А Гоохстратена выдавал его сиплый голос, Горна – его зычный голос, Людвига Нассауского – его манера выражаться по-военному властно, Молчаливого же – то, как медленно, будто взвешивая на весах, цедил он слова.
Граф Эгмонт спросил, для чего они собрались вторично: разве в Хеллегате им было недосуг порешить, что надо делать?
– Время летит, король разгневан, медлить нельзя, – возразил Горн.
Тогда заговорил Молчаливый:
– Отечество в опасности. Мы должны отразить нашествие вражеских полчищ.
Эгмонт, придя в волнение, заговорил о том, что его удивляет, почему король находит нужным посылать сюда войско, меж тем как стараниями дворян и в частности его, Эгмонта, стараниями мир здесь водворен.
– В Нидерландах у Филиппа четырнадцать воинских частей, и части эти всецело преданы тому, кто командовал ими под Гравелином и под Сен-Кантеном[163] , – заметил Молчаливый.
– Не понимаю, – сказал Эгмонт.
– Больше я ничего не скажу, – объявил принц, – но для начала вашему вниманию, граф, равно как и вниманию всех здесь присутствующих сеньоров, будут предложены письма одного лица, а именно – несчастного узника Монтиньи.[164]
В этих письмах мессир де Монтиньи писал:
«Король возмущен тем, что произошло в Нидерландах, и в урочный час он покарает зачинщиков».
Тут граф Эгмонт заметил, что его знобит, и попросил подбросить поленьев в камин.
Пока два сеньора толковали о письмах, была предпринята попытка затопить камин, но труба была так плотно забита, что огонь не разгорелся и в комнату повалил дым.
Затем граф Гоохстратен, кашляя, передал содержание перехваченных писем испанского посланника Алавы[165] к правительнице:
– Посланник пишет, что в нидерландских событиях повинны трое, а именно – принц Оранский, граф Эгмонт и граф Горн. Однако ж, – замечает далее посланник, – налагать на них опалу до поры до времени не следует, – напротив того, должно дать им понять, что усмирением Нидерландов король всецело обязан им. Что же касается двух других, то есть Монтиньи и Бергена[166] , то они там, где им быть надлежит.
«Да уж, – подумал Уленшпигель, – по мне, лучше дымящий камин во Фландрии, нежели прохладная тюрьма в Испании: там на сырых стенах петли растут».
– Далее посланник сообщает, что король произнес в Мадриде такую речь: «Беспорядки, имевшие место в Нидерландах, подорвали устои нашей королевской власти, нанесли оскорбление святыням, и если мы не накажем бунтовщиков, то это будет соблазн для других подвластных нам стран. Мы положили самолично прибыть в Нидерланды и обратиться за содействием к папе и к императору[167] . Под нынешним злом таится грядущее благо. Мы окончательно покорим Нидерланды и по своему усмотрению преобразуем их государственное устройство, вероисповедание и образ правления».
«Ах, король Филипп! – подумал Уленшпигель. – Если б я мог преобразовать тебя по-своему, то как бы славно преобразовались твои бока, руки и ноги под моей фламандской дубиной! Я бы прибил твою голову двумя гвоздями к спине и послушал, как бы ты в таком положении, окидывая взором кладбище, которое ты за собой оставляешь, запел на свой лад песенку о тиранических твоих преобразованиях».
Принесли вина. Гоохстратен встал и провозгласил:
– Пью за родину!
Все его поддержали. Он осушил кубок и, поставив его на стол, сказал:
– Для бельгийского дворянства настает решительный час. Надо условиться о том, как мы будем обороняться.
Он вопросительно посмотрел на Эгмонта, но граф не проронил ни звука.
Тогда заговорил Молчаливый:
– Мы устоим в том случае, если Эгмонт, который дважды, под Сен-Кантеном и Гравелином, повергал Францию в трепет, если Эгмонт, за которым фламандские солдаты пойдут в огонь и в воду, поможет нам и преградит путь испанцам в наши края.
– Я благоговею перед королем и далек от мысли, что он способен вынудить нас на бунт, – сказал Эгмонт. – Пусть бегут те, кто страшится его гнева. А я остаюсь – я не могу без него жить.
– Филипп умеет жестоко мстить, – заметил Молчаливый.
– Я ему доверяю, – объявил Эгмонт.
– И голову свою ему доверяете? – спросил Людвиг Нассауский.
– Да, – отвечал Эгмонт, – и голова, и тело, и мое верное сердце – все принадлежит ему.
– Я поступлю, как ты, мой досточтимый, – сказал Горн.
– Надо смотреть вперед и не ждать, – заметил Молчаливый.
Тут мессир Эгмонт вскипел.
– Я повесил в Граммоне двадцать два реформата[168] – крикнул он. – Если реформаты прекратят свои проповеди, если святотатцы будут наказаны, король смилостивится.
– На это надежда плоха, – возразил Молчаливый.
– Вооружимся доверием! – молвил Эгмонт.
– Вооружимся доверием! – повторил за ним Горн.
– Мечами должно вооружаться, а не доверием, – вмешался Гоохстратен.
Тут Молчаливый направился к выходу.
– Прощайте, принц без земли! – сказал ему Эгмонт.
– Прощайте, граф без головы! – отвечал Молчаливый.
– Барана ждет мясник, а воина, спасающего родимый край, ожидает слава, – сказал Людвиг Нассауский.
– Не могу и не хочу, – объявил Эгмонт.
«Пусть же кровь невинных жертв падет на голову царедворца!» – подумал Уленшпигель.
Все разошлись.
Тут Уленшпигель вылез из трубы и поспешил с вестями к Праату.
– Эгмонт изменник, – сказал Праат. – Господь – с принцем Оранским.
А герцог Альба? Он уже в Брюсселе[169] . Прощайтесь с нажитым добром, горожане!
Молчаливый выступает в поход – сам Господь ведет его.
Оба графа уже схвачены[170] . Альба обещает Молчаливому снисхождение и помилование, если тот явится к нему.
Узнав об этом, Уленшпигель сказал Ламме:
– Герцог, черт бы его душу взял, по настоянию генерал-прокурора Дюбуа предлагает принцу Оранскому, его брату Людвигу, Гоохстратену, ван Ден Бергу[171] , Кюлембургу, Бредероде и всем друзьям принца явиться к нему[172] , обещает им правосудие и милосердие и дает полтора месяца сроку. Послушай, Ламме: как-то раз один амстердамский еврей стал звать своего врага. Вызывающий стоит на улице, а вызываемый у окна. «Выходи! – кричит вызывающий вызываемому. – Я тебя так стукну по башке, что она в грудную клетку уйдет, и будешь ты смотреть на свет Божий через ребра, как вор через тюремную решетку». А тот ему: «Обещай, говорит, что стукнешь меня хоть сто раз, – все равно я к тебе не выйду». Вот так же могут ответить принц Оранский и его сподвижники.
И они в самом деле отказались явиться. Эгмонт же и Горн поступили иначе. А тех, кто не исполняет своего долга, ждет кара Господня.
Между тем в Брюсселе на Конном базаре были обезглавлены братья д’Андло, сыновья Баттенбурга и другие славные и отважные сеньоры за то, что они попытались с налету взять Амстердам.
А когда они, в количестве восемнадцати человек, с пением молитв шли на казнь, впереди и позади них всю дорогу били барабаны.
А испанские солдаты, которые вели осужденных на казнь, нарочно обжигали их факелами. А когда те корчились от боли, солдаты говорили: «Что, лютеране? Больно? Погодите: будет еще больнее!»