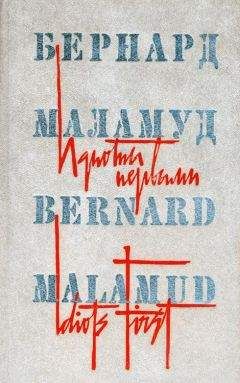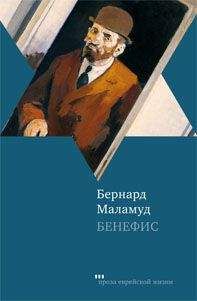Поэтому он снова взялся за поиски беженца. Он решил, что, если он раз навсегда установит — украл или не украл тот его рукопись, причем неважно, найдется она или нет, от одной этой уверенности он снова обретет покой и ему снова захочется работать, а это самое важное.
Изо дня в день он прочесывал людные улицы, ища Зускинда всюду, где торговали с лотков. Каждое воскресенье он с утра проделывал долгий путь на рынок Порта Портезе и часами рылся в грудах подержанных вещей и хлама, разложенных прямо на улице, надеясь, что каким-то чудом вдруг найдет там свой портфель, но портфеля нигде не было. Он ходил по открытому рынку на пьяцца Фонтанелли Боргезе, проверял всех уличных торговцев на пьяцца Данте. Он осматривал тележки зеленщиков и фруктовщиков, попадавшихся ему на улицах, а после сумерек шатался по темным закоулкам среди попрошаек и полуночников, торговавших всякой всячиной. В конце октября, когда похолодало и торговцы жареными каштанами уже сутулились над своими жаровнями по всему городу, он вглядывался в их лица, ища среди них пропавшего Зускинда. Где же он, в каком углу древнего или нового Рима? Этот человек жил на улице — должен же он когда-нибудь попасться навстречу. Иногда в трамвае или автобусе Фидельману казалось, что в уличной толпе мелькнул кто-то, одетый как Зускинд, и он выскакивал на первой же остановке и бежал за прохожим, кто бы он ни был; но один раз человек, стоявший перед Банко ди Санто Спирито, уже ушел, когда Фидельман подбежал туда, запыхавшись, а в другой раз хотя он и догнал человека в коротких брюках, но у того в глазу красовался монокль. Сэр Айэн Зускинд!
В ноябре пошли дожди. Фидельман носил синий берет, непромокаемое пальто и черные итальянские башмаки с острыми носами, которые с виду казались меньше, чем его толстые красно-рыжие туфли, — он их ненавидел за яркий цвет и за то, что в них было жарко ногам. Но вместо того чтобы ходить по музеям, он сидел в кино на самых дешевых местах, жалея об истраченных деньгах. Иногда он попадал в определенные кварталы, где к нему то и дело приставали проститутки. Среди них попадались прелестные лица, от которых становилось больно, и одну из них — тоненькую грустную девчонку с синяками под глазами — Фидельман возжелал со страстью, но он очень боялся за свое здоровье. Он уже хорошо знал Рим, говорил по-итальянски вполне бегло, но на душе у него было тяжело и в крови бурлила ненависть к кривоногому беженцу, и хотя ему иногда думалось — не ошибка ли это? — но все равно он без конца проклинал Зускинда самыми страшными проклятиями.
В одну из пятниц, к вечеру, когда первая звезда затеплилась над Тибром, Фидельман, бесцельно гуляя по левому берегу, набрел на синагогу и вошел туда, замешавшись в толпу евреев-сефардов, сильно похожих на итальянцев. Они подходили поодиночке к раковине в преддверии, подставляли руки под открытый кран и, войдя в молельню, легко касались пальцами лба, губ и груди и кланялись свиткам Торы. Фидельман последовал их примеру. Куда я попал? — подумал он. Три раввина встали со скамьи, началась служба, долгие молитвы то нараспев, то под звуки невидимого органа. Зускинда нигде не было. Фидельман сидел сзади, на скамье, похожей на парту, оттуда он мог видеть не только всех молящихся, но и входные двери. Синагога не топилась — от мраморного пола, словно испарение, подымался холод. У Фидельмана нос горел, как зажженная свечка, и он встал, чтобы уйти, но тут служка, коренастый человек в высокой шапке и коротком кафтане, с длинной и толстой серебряной цепью на шее, внимательно скосил на Фидельмана зоркий левый глаз.
— Из Нью-Йорка? — спросил он, торопливо подходя к Фидельману.
Половина молящихся обернулась — взглянуть, с кем он говорит.
— Из штата Нью-Йорк, но не из самого города, — ответил Фидельман, остро ощущая свою вину за то, что привлек всеобщее внимание. И, воспользовавшись паузой, шепнул служке — Не знаете ли вы человека по имени Зускинд? Он ходит в штанах до колен.
— Родственник? — Служка посмотрел на него грустными глазами.
— Не совсем.
— У меня у самого сына убили в Адреатинских пещерах. — Слезы навернулись на глаза служки.
— О, я вам очень сочувствую.
Но служка не стал об этом распространяться. Он вытер повлажневшие веки толстыми пальцами, и любопытные сефарды опять повернулись к своим молитвенникам.
— Какой это Зускинд? — спросил служка.
— Шимон.
Служка почесал за ухом.
— Поищите в гетто.
— Искал.
Служка медленно отошел, и Фидельман потихоньку выбрался из синагоги.
Гетто начиналось прямо за синагогой — несколько кварталов тесно застроенных кривых улиц, с дряхлыми развалинами аристократических дворцов и немыслимыми трущобами, где по облупленным стенам на веревках висело сырое линялое белье и пересохшие фонтаны на площадях были замусорены и загажены. Многоквартирные дома, выстроенные из темного камня на остатках старинных стен, окружавших гетто, кренились над булыжной мостовой узких улиц. Иногда среди обнищавших зданий попадались оптовые склады богатых евреев, где за темной дырой входа было много дорогих товаров, серебра и разноцветных шелков. В путанице проулков бродили сегодняшние нищие, и среди них очутился Фидельман, согнувшийся под бременем истории, хотя, как он определил для себя, причастность к ней удлиняла его собственную жизнь.
От белесой луны над гетто словно стоял пасмурный день. Один раз Фидельману показалось, что он видит знакомый призрак, и он бросился за ним в проход между толстыми каменными стенами и добежал до тупика, где на пустой стене стояло: «Vietato urinare!»[53] Здесь был запах, но не было Зускинда.
За тридцать лир Фидельман купил сморщенный, почернелый банан у лоточника с велосипедом (опять же не 3.) и, остановившись, стал есть его. Вокруг него сразу собралась толпа мальчишек.
— Кто из вас знает Зускинда, беженца, он ходит в коротких штанах? — объявил Фидельман и, наклонившись, показал кончиком банана у себя под коленкой, где кончались зускиндовские брючки. Он даже сделал ноги дугой, но никто не обратил внимания.
Пока он доедал банан, все молчали, потом узколицый мальчуган с прозрачными карими глазами мурильевского ангелочка пропищал:
— Он иногда работает на Симитеро Верано в том углу, где евреев хоронят.
И туда забрался, подумал Фидельман.
— Как это работает на кладбище? Копает могилы?
— Он над мертвыми молится, — сказал мальчик, — за денежку.
Фидельман тут же купил ему банан, и остальные разбежались.
В субботу на кладбище было пусто, следовало бы прийти в воскресенье, и Фидельман походил между могилами, читая надписи на камнях; медные подсвечники увенчивали надгробья, кое-где на каменных плитах увядали желтые хризантемы, и Фидельману казалось, что в День всех святых, когда в другой части кладбища шел праздник, цветы были брошены украдкой отщепенцами-детьми, которым невыносимо было смотреть на пустые, без цветов, могилы родителей в день, когда могилы гоев были все в цветах и свечах. На многих камнях Фидельман прочел имена тех, кто так или иначе стал жертвой последней войны, а над одной, по-видимому, пустой могилой под шестиконечной звездой, вырезанной на мраморной плите, стояло: «Памяти моего любимого отца, убитого нацистскими варварами в Освенциме. „О crime orribile“»[54].
Зускинда нигде не было.
Прошло три месяца с тех пор, как Фидельман приехал в Рим. Он много раз задавал себе вопрос: не бросить ли ему и этот город и эти дурацкие поиски? Почему бы не уехать во Флоренцию и там, в мировой сокровищнице искусств, снова найти вдохновение для работы? Но потеря первой главы висела над ним, словно заклятие. По временам он думал об этом с пренебрежением: рукопись — дело рук человеческих, значит, ее можно восстановить. Но иногда он подумывал, что дело вовсе не в самой рукописи, дело в том, что его одолевало неуемное любопытство — разгадать странный характер Зускинда. Неужели он отплатил за добро тем, что украл у человека труд всей его жизни? Неужто он до такой степени исковеркан неудачами? Нет, надо добиться разгадки, необходимо понять этого человека, но сколько драгоценного времени, сколько сил уйдет на это! Часто Фидельман горько усмехался: смешно, как он горюет о потере рукописи. Но когда он вспоминал, сколько сил, сколько времени вложено в этот труд, как тщательно разработана каждая новая мысль, как продуманы все трудности композиции, как внушителен будет законченный труд — возрождение Джотто, — сердце у него болело: и как не болеть — время идет, чего же он здесь ищет?
Уверенность, что рукопись украл Зускинд, росла у Фидельмана с каждым днем — иначе зачем бы тот прятался? Фидельман часто вздыхал и все больше полнел… На конвертах писем, полученных от сестры Бесси и оставшихся без ответа, он бесцельно рисовал летящих ангелочков. Как-то, рассматривая эти миниатюрные наброски, он подумал, что, может быть, когда-нибудь он вернется к живописи, но эта мысль только отозвалась в нем невыносимой болью.