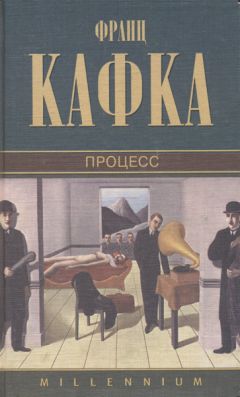Само собой напрашивается возражение, что толкованию, построенному на такой основе, можно доверять не более, чем толкованию, построенному на любом ином элементе искаженного кафкианского космоса. Мол, эти его впечатления — всего лишь индивидуальные, случайные психологические проекции. И тот, кто считает, что соседи наблюдают за ним из окон или что голос, поющий в телефонной трубке, это собственный голос телефона (а тексты Кафки кишат подобными высказываниями), тот страдает навязчивыми идеями и манией преследования, а уж кто на этом выстраивает что-то вроде системы, тот просто параноик, и тексты Кафки нужны ему единственно для рационализации[47] собственного бреда. Это возражение легко опровергнуть, если рассмотреть отношение самого творчества Кафки к указанной сфере. Его фраза «Психология — в последний раз»,[48] его замечание о том, что все им написанное можно интерпретировать психоаналитически, но эти интерпретации потребуют следующих, и так ad indefinitum,[49] — все эти декларации, равно как и традиционная заносчивость недавней идеологической защиты материализма, не должны соблазнять к выводу об отсутствии у Кафки точек соприкосновения с Фрейдом. Хороши были бы те глубины, за которые его — задним числом — так восхваляют, если бы в них отрицалось то, что лежит под ними. Взгляды Кафки и Фрейда на иерархию почти неразличимы. Одно из мест «Тотема и табу» гласит: «Табу короля слишком сильно для его подданного, так как социальное различие между ними слишком велико. Но какой-нибудь министр может стать вполне безвредным посредником между ними. В переводе с языка табу на обычную психологию это означает: подданный, страшащийся колоссального искушения, которым является для него соприкосновение с королем, вполне может перенести контакт с чиновником, которому у него нет причин так уж сильно завидовать и чье положение в принципе достижимо и для него самого. Министр же свою зависть к королю может умерить сознанием власти, предоставленной ему самому. Таким образом, преодолимых различий вводящей во искушение магической силы следует опасаться меньше, чем слишком больших».[50] В «Процессе» высокопоставленное лицо произносит: «Уже одного вида третьего [стража] даже я не могу вынести»; подобное же происходит и в «Замке». Попутно это проливает свет на некий ключевой прустовский комплекс: снобизм как желание унять страх перед табу посредством вхождения в круг посвященных: «так как не близость к Кламму сама по себе была для него достойна стремлений, ему было важно, чтобы он, К., именно он, а не кто-то другой, — со своими собственными, а не чьими-то желаниями пришел к Кламму, и пришел не для того, чтобы возле него успокоиться, а для того, чтобы пройти мимо него дальше, в Замок».[51] Равным образом приводимое Фрейдом выражение délire de toucher,[52] справедливое в сфере табу, касается именно того сексуального волшебства, которое у Кафки притягивает друг к другу людей, принадлежащих иногда к далеко отстоящим друг от друга слоям общества. У Кафки есть намеки даже на заподозренное Фрейдом «искушение», а именно — убийство фигуры, олицетворяющей отца. В конце той главы «Замка», в которой хозяйка разъясняет землемеру, что для него никоим образом невозможно самому говорить с Кламмом, землемер оставляет за собой последнее слово: «„Так чего же вы боитесь? Уж не боитесь ли вы, чего доброго, за Кламма?“ Хозяйка молча смотрела ему вслед, как он сбегал вниз по лестнице, а за ним следовали помощники».[53]
Мы более всего приблизимся к пониманию отношений между исследователем несознаваемого и иносказителем непроницаемого, если вспомним, что Фрейд всякий архетипический сюжет — скажем, убийство отца первобытной орды, доисторическое сказание (например, о Моисее) или наблюдение в раннем возрасте соития родителей — воспринимал не как сгусток фантазии, а как совершенно реальное событие. В таких эксцентричностях Кафка следует за Фрейдом с шутовской верностью, доходя до абсурда. Он отрывает психоанализ от психологии. Но психоанализ, выводя индивида из аморфных и диффузных влечений, «Я» — из «Оно», и сам в известном смысле противопоставляет себя собственно психологическому. Личность перестает быть чем-то субстанциональным и становится всего лишь принципом организации соматических импульсов. Одушевленность у Кафки, как и у Фрейда, никакого значения не имеет, поэтому Кафка с самого начала ее почти и не замечает. От имеющих куда более почтенную историю естественнонаучных воззрений его отличает не утонченная духовность, а то, что своим скептическим отношением к «Я» он их, пожалуй, даже превосходит. Этому способствует и кафкианская буквальность. Как в каком-нибудь протоколе медэкспертизы, он исследует, что было бы, если бы показания собранного психоаналитического анамнеза оказались не метафорически и ментально достоверными, а жизненными. Он соглашается с психоаналитическими построениями, когда они изобличают иллюзорный характер культуры и буржуазной индивидуации,[54] и он взрывает их, когда ловит на слове, понимая их точнее, чем сам психоанализ. Согласно Фрейду, психоанализ роется в «отбросах внешнего мира», под каковыми понимаются явления психические — ошибочные действия, сны и невротические симптомы. Кафка грешит против издавна установленных правил игры, претворяя в искусство не что иное, как сор действительности. Он не изображает картину надвигающегося общества непосредственно, ибо у него, как и вообще в большом искусстве, царит аскетизм в обрисовке будущего, — он монтирует ее из тех отходов, которые формирующееся новое выбрасывает из проходящего настоящего. Вместо исцеления неврозов он ищет в них самих целебную силу — силу познания: раны, которые социум выжигает на теле отдельного человека, прочитываются этим человеком как шифры социальной неправды, как негатив правды. Мощь Кафки — это мощь разрушения. Он сносит декоративные фасады, обнажая то безмерное страдание, с которым рациональный контроль все больше свыкается. В разрушении — никогда это слово не было так популярно, как в год смерти Кафки, — он не останавливается, подобно психологии, на субъекте, но добирается до субстанционального уровня, проникая сквозь видимое к тому субстанциональному, которое в субъективной сфере проявляется в ничем не смягченном обвале поддающегося, отказывающегося от всякого самоутверждения сознания. Эпический путь Кафки — бегство сквозь человека в нечеловеческое. Это падение человеческого гения, это судорожное непротивление, которое так идеально согласуется с моралью Кафки, парадоксально вознаграждается императивным авторитетом своего выражения. Этой до разрыва напряженной расслабленности непосредственно, нечаянно достается в виде «духовного тела» то, что было метафорой, значением, смыслом. Словно по мере того, как Кафка писал, развертывалась некая философская категориальная система, оплаченная в аду. «Безоконная» монада проявляет себя в качестве laterna magica[55] — матери всех картин, как у Пруста и Джойса. Всякий по своему опыту может почувствовать, где начинается индивидуация, что она скрывает и что сама из себя изгоняет, но уловить это не удастся без самоизоляции и самопогружения. Тому, кто захочет проследить возникновение аномальных впечатлений, которые у Кафки воспроизводят норму, надо где-нибудь в большом городе попасть в аварию: появляется бесчисленное количество свидетелей, объявляющих себя очевидцами, словно вся тварь господня собралась, чтобы поприсутствовать при наезде громадного автобуса на хлипкий таксомотор. Перманентное déjà vu есть всеобщее déjà vu. В этом исток популярности Кафки, которая превращается в предательство только тогда, когда из его текстов выпаривают всеобщее, сохраняя лишь напряжение смертельной замкнутости. Быть может, технизация, коллективизация этого déjà vu и есть скрытая цель его поэтического творчества. То самое лучшее, что было забыто, восстанавливается в памяти и силой заклятия загоняется в бутылку, как Кумская сивилла. Однако при этом самое лучшее превращается в самое худшее: «Умереть хочу», — но в этом будет отказано. Увековеченную бренность настигает проклятие.
4
Увековеченные жесты у Кафки — это остановленные мгновенья, вызывающие шок подобно сюрреалистическому «оживлению» старых фотографий. Такая — неясная, почти совсем выцветшая — фотография играет свою роль и в «Замке». Хозяйка, сохранившая фотографию как то, что осталось у нее от соприкосновения с Кламмом (то есть с иерархией), показывает ее К., которому лишь с трудом удается что-то на ней различить. Некогда яркие сцены, вышедшие из-под купола цирка, с которым Кафка, вместе с авангардом своего поколения, чувствовал внутреннее сродство, многократно возникают в его произведениях; возможно даже, что все должно было стать такой сценой, и лишь интенциональная избыточность длинных диалогов предотвратила это. То, что балансирует на острие мгновения, как лошадь на задних ногах, фиксируется так, словно подобная поза должна сохраняться всегда. Очевидно, самый избитый пример мы находим в «Процессе». Стоит Йозефу К. открыть дверь кладовки, в которой днем раньше наказывали его сторожей, как начинается точное — вплоть до вчерашних возгласов — повторение сцены. «К. тут же захлопнул дверь и потом еще стукнул по ней кулаками, словно так она была закрыта надежней». Вот характерный жест кафкианского произведения, которое, как это уже бывало у По, отворачивается от крайностей так, словно ничей взгляд не в силах вынести таких картин. В этом — взаимопроникновение вечно-одинакового и эфемерного. Снова и снова рисует Титорелли одну и ту же однообразную картину, этот степной пейзаж.[56] Одинаковость или интригующая похожесть элементов множества признается одним из самых навязчивых мотивов Кафки; всякой полутвари оказывается по паре, и пары эти, зачастую отмеченные печатью детскости и дурашливости, колеблются между добросердечием и жестокосердием, как звери из детских книжек. Так трудна стала людям индивидуация и так неуверенно они себя до сих пор чувствовали, что они смертельно пугаются, стоит лишь чуть-чуть приподнять повязку, закрывающую им глаза. Пруст знал чувство легкого дискомфорта, охватывающее человека, внимание которого обратили на его сходство с каким-то неизвестным ему сородичем. У Кафки это чувство разрастается до панического. Царство déjà vu населено двойниками, возвращенцами, паяцами, хасидскими плясунами, детьми, которые передразнивают учителя и вдруг предстают взгляду доисторическими, первобытными существами (в какой-то момент у землемера возникает сомнение, вполне ли живые люди его помощники). Но в то же время это — сигналы надвигающегося, экземпляры, произведенные на конвейере, механически репродуцированные копии, эпсилоны Хаксли.[57] Общественное происхождение индивидуума в конце концов разоблачает себя как сила его уничтожения. Творчество Кафки есть попытка абсорбировать эту силу. В его прозе нет и следа помешательства (в отличие от Роберта Вальзера[58] — рассказчика, у которого Кафка перенял все самое главное), — в каждой его фразе запечатлен отчеканивший ее могучий дух, но при этом каждая фраза предварительно была извлечена им из сферы безумия, куда в эпоху всеобщего ослепления, которое лишь усугубляется здравым человеческим рассудком, должно, видимо, решиться войти всякое сознание, чтобы стать сознанием. Этот герметический принцип, кроме прочего, выполняет защитную функцию: не впускать напирающее извне безумие. Но это означает самоколлективизацию. Произведения, расшатывающие индивидуацию, ни в коем случае не должны рождать подражаний; возможно, поэтому Кафка и распорядился их уничтожить. В той области, куда они вступали, не должен процветать туризм; тот, кто не был там и лишь копирует жесты, тот предается чистому бесстыдству: он хотел бы познать соблазн и жестокую власть отчуждения, ничем не рискуя. Следствием была бы бессильная манерность. Карл Краус,[59] а в известной мере — и Шенберг реагировали на подобные явления аналогично Кафке. Однако такая неподражаемость влияет и на ситуацию критика. Его позиции по отношению к Кафке — позиции наследника — уже не позавидуешь: в ней предзадана апология сущего. И не потому, что в произведениях Кафки ничто не может быть подвергнуто критике. Монотонность его больших романов — самый заметный недостаток из тех, что лежат на поверхности.