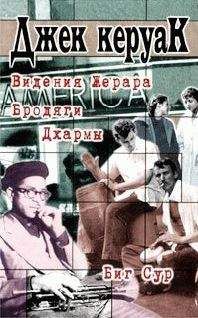Дважды в месяц «Бленхейм», управляемый Ирлеманом, делал рейс в Браззавиль, и было решено, что в следующий раз полечу я. Всем телом я ощущал пустоту, каждой клеточкой чувствуя отсутствие Луизон. Руки казались мне никчемными.
Самолет Ирлемана, возвращения которого я ждал в Банги, потерял винт над Конго и упал в затопленном лесу. Ирлеман, Бекар и Крузе погибли. Механик Куртио раздробил себе ногу. Не пострадал только радист Грассе. Чтобы дать знать о своем местонахождении, ему вздумалось шпарить из пулемета каждые полчаса. И всякий раз жители из соседней деревушки, видевшие, как упал самолет, и бросившиеся на помощь, в ужасе обращались в бегство. Так продолжалось трое суток, и Куртио, который не мог передвигаться из-за своей травмы, чуть не сошел с ума, с утра до ночи сражаясь с рыжими муравьями, набрасывавшимися на его рану. Меня часто включали в экипаж Ирлемана и Бекара; к счастью, приступ малярии, ниспосланный провидением, сразил меня на неделю и заставил забыть обо всем.
Таким образом, мой полет в Браззавиль отложили на следующий месяц, до возвращения Субабера. Но Субабер тоже пропал в лесах Конго вместе со своим загадочным «Летающим крылом», который умели водить только он и американец Джим Моллисон. Я получил приказ прибыть в свою эскадрилью на абиссинский фронт. Тогда я еще не знал, что бои с итальянцами фактически закончились и что я там никому не нужен. Я подчинился. Мне никогда больше не суждено было увидеть Луизон. Товарищи несколько раз сообщали мне о ней новости. Лечение шло успешно. Была надежда. Она спрашивала, когда я вернусь. Была весела. И после этого тишина. Я писал письма, делал запросы через вышестоящие инстанции, отправил несколько угрожающих телеграмм. Никакого ответа. Военные власти хранили гробовое молчание. Я неистовствовал, протестовал: самый нежный голос в мире взывал ко мне из скорбного африканского лазарета. Меня направили в Ливию. Подвергли медосмотру, чтобы выяснить, нет ли у меня проказы. Ее не оказалось. Но я был болен. Никогда не думал, что голос, шея, плечи, руки могут так неотступно преследовать. Я только хочу рассказать, как сладко было утопать в ее глазах и что с тех пор я не нахожу себе места.
Письма от матери стали короче. Написанные наспех, карандашом, они приходили сразу пачками. Она хорошо себя чувствует. Инсулина у нее достаточно. «Славный мой сын, я горжусь тобой… Да здравствует Франция!» Сидя за столиком на крыше отеля «Руаяль», откуда были видны Нил и миражи, среди которых плыл город словно по тысячам пылающих озер, я предавался мечтам, окруженный венгерскими танцовщицами и канадскими, южно-африканскими и австралийскими летчиками, которые толпились на танцплощадке и около бара, стараясь снискать на эту ночь благосклонность какой-нибудь красивой девушки. Платили все, кроме французов, что еще раз доказывало, что даже после поражения Франция не утратила своего престижа. Я читал и вновь перечитывал нежные, доверчивые слова, в то время как Ариана, возлюбленная одного из наших доблестных авиаторов, временами, в перерывах между танцами, подсаживалась к моему столику и с любопытством смотрела на меня.
— Она любит тебя?
Я уверенно и без ложной скромности кивал.
— А ты?
Я, как всегда, изображал из себя старого ловеласа.
— О, ты знаешь, для меня женщины… вместо одной потерянной десять новых.
— А ты не боишься, что она тебе изменит, пока тебя нет?
— Ну знаешь, нет! — отвечал я.
— Даже если война будет длиться годы? — Даже если годы.
— Ты что же, думаешь, что нормальная женщина годами станет обрекать себя на одиночество ради твоих прекрасных глаз?
— Представь себе, думаю, — ответил я. — Мне это знакомо. Я знал одну женщину, которая долгие годы жила в одиночестве ради чьих-то прекрасных глаз.
Мы перебазировались в Ливию, готовя новое наступление на Роммеля. Там в первые же дни самым трагическим образом погибло шестеро французов и девять англичан. В то утро дул сильный хамсин (ветер, подобный египетскому сирокко), и, взлетев против ветра, пилоты трех наших «Бленхеймов», которыми командовал Сен-Перез, увидели, как из песчаного облака внезапно появились три английских «Бленхейма», которые потеряли ориентацию и неслись им навстречу, подгоняемые ветром. На борту каждого самолета было по три тонны бомб, и обе тройки, уже набрав взлетную скорость, находились в этот момент в таком положении, когда невозможно маневрировать. Только Сен-Перез, благодаря своему штурману Бимону, смог избежать столкновения. Все разбились вдребезги. Потом еще долго можно было видеть собак, пробегавших с кусками мяса.
Мне повезло, я не летал в тот день. В момент взрыва меня соборовали в военном госпитале Дамаска.
У меня был тиф с кишечным кровоизлиянием, и врачи — капитан Гийон и майор Винь — считали, что у меня был только один шанс из тысячи, чтобы выжить. Я перенес пять переливаний крови, и товарищи сменяли друг друга у моего изголовья, отдавая мне свою кровь. За мной с истинно христианской самоотверженностью ухаживала одна армянка, сестра милосердия Фелисьен из ордена Святого Иосифа, которая живет теперь в монастыре неподалеку от Вифлеема. Горячка длилась пятнадцать дней, но разум окончательно вернулся ко мне только через шесть недель. Я долго хранил прошение, которое через высшие инстанции намеревался в бредовом состоянии передать генералу де Голлю и в котором протестовал против административной ошибки, в результате чего, по моим словам, я больше не фигурирую в списке живых; это, в свою очередь, привело к тому, что рядовые и унтер-офицеры больше не отдают мне честь, делая вид, будто меня не существует. Надо сказать, что меня только что произвели в младшие лейтенанты, и после инцидента в Аворе я очень дорожил этим повышением и внешними знаками внимания, которые полагалось мне оказывать.
Наконец врачи решили, что мне осталось жить всего несколько часов, и вызвали моих товарищей с воздушной базы Дамаска для несения почетного караула у моего тела в госпитальной часовне, в то время как санитар-сенегалец водворил в моей палате гроб. На минуту придя в сознание а это обычно случалось после кровотечения, вследствие оттока крови, — я заметил гроб у своей кровати и, видя в этом новые козни, тут же пустился наутек. Я нашел в себе силы подняться и дотащиться на своих тонких, как спички, ногах до сада. Там грелся на солнышке молодой человек, выздоравливавший после тифа. Видя, что к нему направляется шатающийся и совершенно голый призрак в офицерской фуражке, бедняга испустил вопль и бросился в медпункт. В тот же день у него начался рецидив. Будучи в бреду, я нахлобучил фуражку младшего лейтенанта с абсолютно новенькой, недавно полученной кокардой. Я не желал расставаться с ней. Это явно доказывает, что шок, полученный мной от унижения в Аворе, был сильнее, чем я предполагал. Мои предсмертные хрипы напоминали свист пустого сифона. А мой дорогой друг Бимон, примчавшийся из Ливии — проведать меня, потом сказал мне, что нашел шокирующим и даже неприличным упорство, с которым я цеплялся за жизнь. Я, по его мнению, перебарщивал.
Начисто забыл о хорошем тоне и изящных манерах. Как говорится, лез из кожи вон. Это производило неприятное впечатление. Я напоминал скупого, цепляющегося за свои деньги. И с чуть насмешливой улыбкой, которая так его красила и которую, надеюсь, он сохранил до сих пор, живя в своей Экваториальной Африке, он сказал мне:
— Похоже, тебе очень хотелось жить.
Прошла неделя после соборования. Признаю, что не стоило создавать столько проблем. Но я был плохим игроком и не умел проигрывать. Я отказывался признать себя побежденным. Я не принадлежал себе. Мне необходимо было выполнить свое обещание и, одержав сто великих побед, вернуться домой, увенчанным славой; написать «Войну и мир»; стать французским посланником — короче, дать раскрыться таланту своей матери. Главное, я отказывался мириться с поражением. Истинный художник не может сдаться, не завершив творения. Он стремится передать свое вдохновение грубому материалу, старается придать магме форму, смысл, выражение. Я был против того, чтобы мамина жизнь так глупо закончилась в инфекционном отделении дамасского госпиталя. Любовь к прекрасному, то есть к справедливости, не позволила мне бессмысленно прервать свою жизнь, хотя бы на мгновение не озарив окружающий меня мир созвучным и волнующим смыслом. Я не поставлю своей подписи под актом, который протягивают мне боги, абсурдным актом небытия и бесследного исчезновения. Я не настолько бездарен.
И все же было огромное искушение сдаться. Все мое тело было покрыто гнойными язвами. Иголки, через которые мне по капле вводили физиологический раствор, часами торчали из моих вен, вызывая такое чувство, будто я запутался в колючей проволоке. Воспаленный язык распух. Левая челюсть, треснувшая во время аварии в Мериньяке, загноилась, и кусочек кости, отколовшись, торчал из десны наружу.