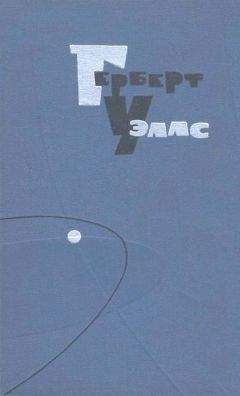Перед этим рассуждали, где удобнее жить.
— Мы покидаем наш дом в Болтоне, — сказал Ривел, — и поселимся в небольшом домике в Уимблдоне, а кроме того, я думаю снять комнаты в Дейнском подворье. Это будет во многих отношениях удобнее. Моя жена отчаянно увлекается гольфом, и вообще она ярая любительница спорта, а я люблю посиживать в клубах — у меня не хватает сил для всех этих высокополезных физических упражнений, — так что наше прежнее местожительство не подходит ни ей, ни мне. А кроме того, вы даже не представляете, как избаловалась прислуга в Вест-Энде за последние три года.
— Это повсюду одинаково, — вставила миссис Биндон Боттинг.
— Очень может быть. По мнению одного моего приятеля, это означает, что приходит в упадок традиция рабства; на его взгляд, это явление весьма обнадеживающее…
— Вот бы ему моих двух негодяек, — вставила миссис Биндон Боттинг.
Она обернулась к миссис Уэйс, а Ривел несколько запоздало вымолвил: «Возможно…»
— Вы ведь еще не знаете, дорогая, — затараторила миссис Биндон Боттинг, — у меня опять неприятность.
— С новой служанкой?
— Да, с новой служанкой. Я еще не успела нанять кухарку, а моя горничная, которую я раздобыла с таким трудом… — она сделала эффектную паузу, — уже хочет уходить.
— Испугалась? — спросил молодой Уолшингем.
— Переживает какую-то таинственную драму! До самого чая с анаграммами была весела, как жаворонок. А вечером сделалась черней тучи, не подступись, и стоило моей тетушке что-то ей сказать — сразу потоки слез и предупреждение об уходе! Разве в анаграммах есть что-нибудь такое… душераздирающее? — И ее взгляд на мгновение задумчиво остановился на Киппсе.
— Пожалуй, что и есть, — сказал Ривел. — Я полагаю…
Но миссис Биндон Боттинг не дала ему закончить.
— Сначала мне было прямо не по себе…
Киппс, который смотрел на нее, как завороженный, больно уколол губу вилкой и, очнувшись, опустил глаза.
— …а может быть, анаграммы чем-то оскорбляют нравственные устои порядочной прислуги… кто знает? Мы стали ее расспрашивать. На все твердит одно слово: нет. Она должна уйти — и все тут.
— В подобных вспышках душевной сумятицы, — сказал мистер Ривел, — ощущаешь последние смутные отблески эпохи романтизма. Предположим, миссис Боттинг, ну по крайней мере попробуем предположить, что тут повинна сама Любовь.
У Киппса дрогнули руки, вилка с ножом звякнули о тарелку.
— Конечно, это любовь, — сказала миссис Боттинг. — Что же еще? Под кажущимся благонравием и однообразием нашего существования разыгрываются романы, потом, рано или поздно, они терпят крах, тотчас следует предупреждение об уходе, и тогда все в доме идет колесом. Какой-нибудь роковой красавец солдат…
— Страсти простонародья или домашней прислуги… — начал Ривел и вновь завладел вниманием сотрапезников.
Киппс окончательно забыл все правила поведения за столом, но в душе у него вдруг воцарились непривычная тишина и покой. Впервые в жизни он самостоятельно и твердо решил, как ему поступать дальше. Он уже не слушал Ривела. Он отложил вилку и нож и не пожелал больше притронуться ни к одному блюду. Филин незаметно бросал на него участливые и озабоченные взгляды, а Элен чуточку покраснела.
В тот же вечер, около половины десятого, в доме миссис Биндон Боттинг громко и требовательно зазвонил звонок; у парадной двери стоял молодой человек во фраке и цилиндре — по всему видно, джентльмен. Его белоснежную манишку наискось пересекала алая шелковая тесьма, которая сразу обращала на него внимание и делала почти незаметными несколько ярких пятнышек — следов бургундского. Цилиндр был сдвинут на затылок, волосы встрепаны — знак отчаянной, безрассудной отваги. Да, он сжег свои корабли, он отказался присоединиться к дамам. Филин пытался было его образумить.
— Вы прекрасно держитесь, все идет как нельзя лучше, — сказал он.
Но Киппс ответил, что плевать он на все хотел, и после короткой стычки с Уолшингемом, который попытался преградить ему путь, вырвался и был таков.
— У меня есть дело, — сказал он. — Мне домой надо.
И вот, безрассудный и отважный, он стоит у дверей миссис Биндон Боттинг — Он принял решение. Дверь распахнулась, и глазам открылся приятно обставленный холл, освещенный мягким розовым светом, и в самом центре этой картины, стройная и милая, в черном платье и белом фартучке, стояла Энн. При виде Киппса румянец на ее щеках поблек.
— Энн, — сказал Киппс. — Мне надо с тобой поговорить. Я хочу кое-что сказать тебе прямо сейчас. Понимаешь? Я…
— Здесь со мной не положено разговаривать, — сказала Энн.
— Но послушай, Энн! Это очень важно.
— Ты уже все сказал, хватит с меня.
— Энн!
— И вообще, моя дверь вон там. С черного хода. В полуподвале. Если увидят, что я разговариваю у парадного…
— Но, Энн, я…
— С черного хода после девяти. Тогда я свободна. Я прислуга и должна знать свое место. Если с парадного — как о вас доложить, сэр? У тебя свои друзья, у меня свои, и нечего тебе со мной разговаривать…
— Но, Энн, я хочу тебя спросить…
Кто-то появился в холле у нее за спиной.
— Не здесь, — сказала Энн. — У нас таких нет. — И захлопнула дверь у него перед носом.
— Что там такое, Энн? — спросила немощная тетушка миссис Биндон Боттинг.
— Какой-то подвыпивший джентльмен, мэм… кого-то чужого спрашивал, мэм.
— Кого чужого? — с сомнением спросила старая леди.
— Мы таких не знаем, мэм, — ответила Энн, торопливо направляясь к лестнице, ведущей в кухню.
— Надеюсь, вы были с ним не слишком грубы, Энн.
— Не грубей, чем он заслужил по его поведению, — ответила Энн, тяжело дыша.
Немощная тетушка миссис Биндон Боттинг вдруг поняла, что этот визит имел какое-то отношение к самой Энн, к ее сердечным делам, бросила на нее испытующий взгляд и, поколебавшись минуту, ушла в комнаты.
Она всегда готова была посочувствовать, немощная тетушка миссис Биндон Боттинг; она принимала близко к сердцу все дела слуг, учила их благочестию, вымогала признания и изучала человеческую натуру на тех горничных, которые, заливаясь краской, лгали и все же нехотя открывали ей тайники души; но Энн никому не желала открывать душу, и понуждать и выспрашивать ее казалось небезопасным…
Итак, старая леди промолчала и удалилась наверх.
Дверь отворилась, и Киппс вошел в кухню. Он был красен и тяжело дышал.
Не сразу ему удалось заговорить.
— Вот, — вымолвил он наконец и протянул две половинки шестипенсовика.
Энн стояла по другую сторону кухонного стола, бледная, широко раскрыв глаза; теперь Киппс видел, что она недавно плакала, и ему как-то сразу полегчало.
— Ну? — спросила она.
— Ты разве не видишь?
Энн чуть мотнула головой.
— Я его так долго берег.
— Чересчур долго.
Киппс умолк и сильно побледнел. Он смотрел на Энн. Видно, амулет не подействовал.
— Энн! — сказал он.
— Ну?
— Энн…
Разговор не клеился.
— Энн, — снова повторил Киппс, умоляюще протянул руки и шагнул к ней.
Энн помотала головой и насторожилась.
— Послушай, Энн, — сказал Киппс. — Я свалял дурака.
Они глядели друг другу в глаза, а глаза у обоих были несчастные, страдальческие.
— Энн, — сказал Киппс. — Я хочу на тебе жениться.
Энн ухватилась за край стола.
— Тебе нельзя, — едва слышно возразила она.
Киппс шагнул, словно хотел обогнуть стол и подойти к ней, но Энн отступила на шаг, и расстояние между ними осталось прежним.
— Я иначе не могу, — сказал он.
— Нельзя тебе.
— Я иначе не могу. Ты должна выйти за меня, Энн.
— Нельзя тебе жениться на всех подряд. Ты должен жениться на… на ней.
— Нет.
Энн покачала головой.
— Ты с ней обручился. Она же из благородных. Нельзя тебе теперь обручиться со мной.
— А мне и незачем с тобой обручаться. Я уж обручался, будет с меня. Я хочу на тебе жениться. Поняла? Прямо сейчас.
Энн побледнела еще больше.
— Как же так? — спросила она.
— Поедем в Лондон и поженимся. Прямо сейчас.
— Как же так?
— Да вот так: поедем и поженимся с тобой, пока я еще ни на ком другом не женат, — очень серьезно и просто объяснил Киппс. — Поняла?
— В Лондон?
— В Лондон.
Они снова поглядели друг другу в глаза. И вот ведь удивительно: обоим казалось, что все так и должно быть.
— Не могу я, — сказала Энн. — Первое дело, я еще месяц не отслужила, больше трех недель осталось.
На мгновение это их смутило, словно перед ними встала неодолимая преграда.
— Слушай, Энн! А ты отпросись. Отпросись!
— Не пустит она, — сказала Энн.
— Тогда поехали без спросу, — сказал Киппс.