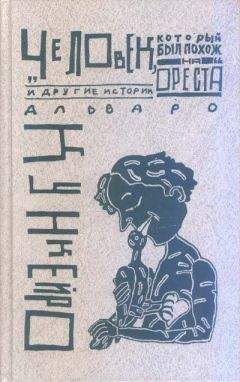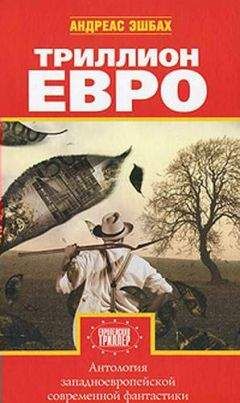Александр облачился в красное и черное, опоясался шерстью, пропитанной кровью единорога и свежим воском, а перед тем, как царь вошел в стеклянную бочку, его писцы — они были из Дамаска и очень напоминали тех бискайцев с красивыми почерками, что работали в канцеляриях Филиппа II, — прочитали океану двадцать четыре декрета, обязав его сохранять штиль двадцать четыре дня. Тогда корабль из семи пород дерева вышел в открытое море, и стеклянная бочка погрузилась в пучину вод, которые, благоговейно расступившись, сказали: «Салям!»
Александр увидел все племена рыб и услышал, как стонут воды, когда Левиафан или Иасконий своим чудовищным весом распластывают их на придонных скалах. Увидел царь и глубоководных людей, покорных воле тирана, которого они каждый день зовут по-новому, считая, что тираны у них все время меняются. А еще он увидел двух сирен: одна, грузная и черноволосая, молча держалась на расстоянии, другая же, белокурая юница (ее движения напоминали о прихотливых евклидовых кривых), узнала в необычном госте великого македонца и запела, конечно же, стихи из «Романа об Александре». Среди прочих диковинок там была башня Валтар, построенная вершиной вниз. Люди соорудили ее, когда закончили Вавилонскую башню, устремленную ввысь. На макушке Валтар свил гнездо аист, зимой улетавший к берегам Нила, того самого, что, как известно, был связан со всеми реками, наземными и подземными. А вот как познал Александр гибкотелую обитательницу моря: сирена обвилась вокруг стекла, к которому, нагой и великолепно оснащенный, прильнул македонец; истечения и ароматы красавицы проникли в бочку, великий царь вдохнул их, и оба испытали наслаждение одновременно. Знатоки утверждают, что стекло пропустило семя Александра в море. Такие чудеса называют осмотическими — благодаря подобным явлениям пишут шариковые ручки. Если все было именно так, под водой, безусловно, должно жить Александрово потомство. Однажды я познакомился с делом, рассматривавшимся Королевской канцелярией Вальядолида: члены некоего горного рода требовали увековечить в дворянской грамоте свое происхождение от Александра Македонского. Что, если пращуром этих астурийских идальго был сын героя и сирены, а человек-рыба из Льерганеса приходится им родней?
Уже давно я решил, что греки стремились узнать, как жили некоторые животные сообщества (например, кентавры и человекообразные одноглазые циклопы) и какой у них был строй — демократический, аристократический, тиранический, монархический или же анархический. Подозреваю, что такого рода цель преследовал и Александр Македонский в своем подводном странствии. Много лет спустя, когда в результате Балканских войн Македонию поделили между собой Греция, Болгария и Сербия, имя ее стало вызывать представление о неразберихе, мешанине; тогда-то и окрестили фруктовую смесь «Маседуан» — македонская. Узнай об этом Александр, он был бы потрясен варварским дележом его царства, а еще сильнее — глумлением над именем страны. Подумать только, наводящая ужас империя — и десерт, который едят ложечкой!
В иное время года я не написал бы этих строк. Нынче же, греясь у огня в старом доме в родном городе, я прислушиваюсь к порывистой беседе ветра с дождем и вспоминаю древние предания. Мне рассказывают, как толстеют будущие рождественские каплуны, а что у соседа готовят колбасу, я знаю сам: запах паленого лаврового листа доносится в комнату. Состояние мое настолько — как бы это сказать — невинно, что вполне можно задуматься о политических интересах и любовных похождениях Александра Македонского в подводном царстве.
РИМСКИЕ КОРАБЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД
Тщательные подсчеты говорят о том, что боевые действия в Кантабрии, а значит, и умиротворение Испании, завершились в двадцать пятом году до Рождества Христова. Тогда же у неспешных вод Миньо, на месте кельтского поселения, был заложен Луго, Lucus Augusti. Судя по всему, галисийский поход 61–60 годов до P. X. — борьба Цезаря с герминиями Серра-де-Эстрельи и калаиками Brigantium’a, нынешнего Бетансоса, — не более чем выдумка. А ведь еще рассказывают, что римский полководец атаковал варваров, укрывшихся на островах Сиес — на этих могучих скалах, которые высятся у бухты Виго. Как утверждали знатоки, Юлий Цезарь, владыка мира, наблюдал за высадкой легионеров, стоя на горе Монтерреаль, что в Байоне. Я представляю себе мыс, где теперь Башня Часов: Цезарь глядит, как снимаются с якоря суда, изъятые у жителей всего побережья; если в ходу уже тогда были замечательные лодки, которые мы называем дорнами, то именно на них римские воины отправились к чистым пляжам Сиесов, где гостей приветствовали роем темных смертоносных стрел.
Вполне возможно, что и Октавиан Август не был дальше Асторги, то есть не углублялся в Галисию, но его приемные сыновья Тиберий и Марцелл, безусловно, участвовали в кантабрийской кампании. Человек, которому предстояло стать цезарем, Тиберий, пил галисийское вино в таких количествах (причем на римский манер — теплым или горячим), что солдаты звали его не Тиберий Клавдий Нерон, а Биберий Кальдий Мерон: bibere на латыни — пить, caldius — горячий, mero — вино или пьянство.
В Кантабрийском море побывал со своими кораблями Агриппа, зять Августа. Римский флот в кампанию 26–25 годов был достаточно грозен. Некоторые полагают, что он строился на юге Испании — в Севилье, Кадисе или у океана, в Лиссабоне, где через тринадцать столетий некий трубадур будет петь:
En Lisboa sobre о mar
barcas novas mandeis labrar[12].
Корабли достигли севера Галисии весной 26 года до P. X. и начали искать место для базового порта. Совсем под рукой нашлась давно обустроенная и очень надежная гавань Барес — стоянка финикийских торговцев оловом, гранитный волнолом, бросающий вызов могучему норду. Римские суда впервые рассекли кантабрийские воды; опытных (в этом нет сомнения) римских кормщиков, закаленных в борьбе с флотами Помпея и пиратами, должно быть, поразила ярость этого темно-зеленого моря, его высокие приливы, киты, кашалоты… И подумать только, ни судна с египетской или сицилийской пшеницей, чтобы крикнуть ему приветствие, ни почтовой галеры из Таррагоны, чтобы пожелать ей счастливого пути… Burum, Барес, дал Агриппе пристанище и возможность плавать вдоль северных берегов Испании. Римляне несколько раз высаживались и настигли арьергард варваров, приблизив тем самым развязку. Мерзляк Агриппа спал, завернувшись в одеяла из цизальпинской шерсти, и шум моря убаюкивал его. Глаз, воспитанный гармоничным латинским пейзажем, дивился на «Столб» Бареса — Эстака-де-Барес, — на этого гиганта, будто сброшенного в море с гор. Большие киты, словно темные острова, плыли рядом с судами, и кормщики слышали грохот вод в чудовищных пропастях, которыми (так думали моряки) обрывался на западе Океан. На севере была легендарная Туле, где ночь и день длились по шесть месяцев. Однажды перед бурей кто-то увидел в той стороне огонь. Его зажгли обитатели Туле, чтобы согреть кровь северных ветров (океан всегда благоприятствовал таким видениям. Потомки Брана лицезрели с маяка Ла-Коруньи огромный изумруд, покоившийся на волнах: это была Исландия. С Бареса разглядели огонь в Исландии, а может быть, что-то еще более далекое. И одним прекрасным вечером на западе показался остров, где бьет источник вечной молодости, — остров, которого не было и нет).
Более двух тысяч лет разделяют 25 год до Рождества Христова и 1975 год. Две тысячи лет назад у кантабрийских берегов появился римский корабль с большими парусами и длинными веслами. Тогда наше море впервые услышало команды на звучной латыни — чуждые звуки, которые скоро станут родными. Корабли выходили в море, воплощая совершенство вергилиевого стиха: «Aequor condescere navibus[13]». Да, корабли выходили в море, и на них изумленно глядели моряки Виседо, Виверо, Селейро, Сан-Сиприана, Бурелы, Фоса, Рибадео… названия которых звучали в ту пору иначе — их давали загадочные древние обитатели Галисии, тогда еще не получившие латинского имени и до сих пор не имеющие христианского.
Давным-давно (вашему покорному слуге было тогда лет двенадцать), стоя летним вечером на камнях Форсана, неподалеку от Фоса, я увидел большой корабль, шедший на север; зюйд-зюйд-вест раздувал его паруса. Мне сказали, что это клипер, везущий пшеницу из Австралии в Англию через мыс Доброй Надежды. Он был так прекрасен, что не раз потом являлся мне в мечтах со всеми своими парусами. Но сейчас мои мысли о другом: я бы хотел по возможности стать древним кельтом из Галисии (в крайнем случае — беззаботным лигурийцем) и однажды ясным утром, какие обычны в наших краях, увидеть корабли Агриппы напротив бухты Эо. Кантабрийское море, что с грохотом разбивается об утесы, было бы поражено не меньше, чем я, и, как в стихотворении Суинберна, мы с латинянами увидали бы «стопы ветра, сверкающие над морем».