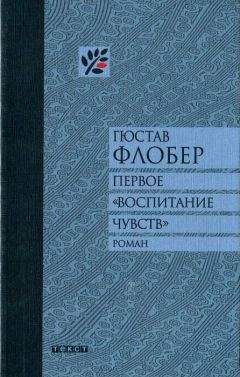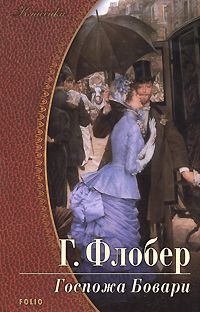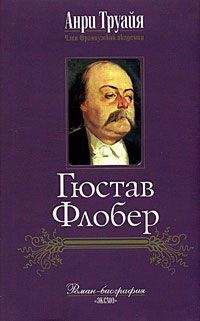Зимой мадам Рено частенько сидела в своей комнате, занимая себя чтением или шитьем за сохранившимся еще со времен ее юности маленьким столиком для рукоделья, примостившимся между окном и очагом. Сколько же раз она в одиночестве просиживала за ним долгие часы, уставясь взглядом в столешницу с инкрустацией в виде шпалерника с большим желтым цветком, вырезанным из апельсинового дерева, и думая о тысяче неизвестных мне вещей; затем неизменно глубоко вздыхала и, вскинув голову, поджав губы, снова бралась за иголку с ниткой; но всякий раз с возвращением весны, стоило проклюнуться первым бутончикам сирени, она переносила столик с рукодельем под зеленые своды и оставалась там до захода солнца. Таким образом, молодые люди, трудясь каждый в своей комнате, замечали, обращая взор к окну, как мелькает ее голубая блуза среди деревьев — она прогуливалась взад и вперед вдоль стены по главной аллее в глубине сада, приглядываясь к шпалерам и травинкам под ногами или не замечая ничего вокруг, а то и нагибаясь, чтобы сорвать фиалку, или ломая в пальцах засохший бутон шиповника. Поутру, еще не сняв папильотки, мадам Рено самолично поливала цветы — от них она, по ее собственным словам, была просто без ума, особенно от жимолости и роз — она самым чувственным образом впивала их аромат.
Когда приходило время трапезы, она спускалась в столовую, где милостиво улыбалась всем как истинная хозяйка дома, желающая выказать гостеприимство.
Она не испытала счастья быть матерью, но детей обожала, если среди гостей оказывались малыши — ласкам, тисканью, сладостям не было конца. Рано выйдя замуж за мсье Рено, она, разумеется, была тогда в него влюблена, пусть один лишь день, одну ночь; но во времена, о коих ведется речь в этом повествовании, она, надо признать, уже трактовала о любви свысока, с легкой грустноватой усмешкой, словно давно с этим чувством распростившись. При всей своей свежей красоте, довольно пылком сердце и с такой великолепной предрасположенностью к любви, она, несомненно, в свой час жадно вобрала ее в себя, в простоте страстного желания нимало не тревожась о ее истоках; конечно, вскоре все это ей приелось, теперь же она жалела об ее отсутствии и, может статься, томилась, как те измученные голодом люди, что, едва добравшись до обеденного стола, наполнили желудки супом и вареным мясом, не подумав о том, что за сим должны воспоследовать индейка с трюфелями и мороженое с шербетом.
Мсье Рено и его половина жили в мире и согласии, что объяснялось полнейшим простодушием супруга и душевной мягкостью супруги, зрелище их совместного бытия наводило на мысль, что перед вами — совершеннейшее из семейств этого мира, а после завтрака они даже прогуливались под руку по саду.
Мадам пользовалась собственным кошельком для ведения хозяйства, имела она и ящик в столе, на тайну которого никто не покушался; мсье мало ворчал и давно уже не делил с нею постель. Вечерами мадам читала допоздна в кровати, мсье же засыпал тотчас и почти не видел снов, разве когда ложился слегка навеселе, что с ним порою случалось.
VI
Среди пансионеров в этом доме имелись и такие, знакомство с кем, может быть, мы еще впоследствии сведем, но упомянем сначала немца, отдававшего все время математике, и двух португальцев из очень богатого семейства, тяжеловесных тугодумов, весьма непригожих лицом, с очень желтой кожей, — они завершали здесь свои занятия, чтобы вернуться домой учеными людьми.
Анри понемногу привязывался к новым знакомцам; обыкновенно он оставался в своей комнате, выходил редко, а когда это случалось, возвращался рано.
Он много чего захватил с собой из дому: маленький портрет сестры (его он тотчас повесил у изголовья кровати), тапочки, расшитые матерью, ружье, ягдташ, столько книг, сколько ему удалось запихнуть в сундук, шкатулочку для писем, красный сафьяновый бювар, на котором он писал, а еще нож, пресс-папье, перочинный ножичек, да не один: подаренные некогда на именины, эти ножички напоминали ему прежних приятелей и навсегда утекшие времена.
Первые дни он только и делал, что расставлял и пристраивал свое добро, стараясь потратить на это занятие как можно больше времени, — и вот ружье с ягдташем украсили стену, а на противоположной, как бы изготовившись к поединку, были поставлены в позицию две рапиры, на столе лежал бювар, а на каминной полке меж двух высоких медных подсвечников примостилась шкатулочка для писем.
Отведенная ему комната на третьем этаже была просторна и почти во всем походила на ту, что располагалась этажом ниже и принадлежала мадам Рено, то есть подобно ей имела два окна, выходивших в сад, и их также украшала железная балюстрадка, прутья которой, с навершиями в виде цветочных головок, были изогнуты, являя взгляду прихотливые арабески во вкусе Людовика XV; в обеих комнатах меж окнами стояли массивные комоды, а у противоположной стены — обитые зеленым утрехтским бархатом канапе, поблескивающие бронзовыми шляпками гвоздей; в зеркале над камином отражалась кровать, наивно привлекая внимание наблюдателя к подвешенному у потолка золотому кольцу с пропущенными сквозь него белоснежными занавесями.
Когда Анри сравнил меблировку этих апартаментов с оставленной дома, когда он наконец приучил себя садиться в это кресло, класть локти на этот стол, то, не имея в предмете ничего иного, посвятил все время занятиям, оставаясь взаперти даже по воскресным дням. Мадам Рено тоже не выходила по этим дням, зато мсье Рено пользовался ими для деловых демаршей, а остальные ученики — чтобы поболтаться по Парижу в чаянье развлечений.
Поскольку квартал был безлюден и экипажей, особенно по вечерам, проезжало немного, Анри обычно слышал, как мадам Рено открывала окно и опускала жалюзи, затем некоторое время до него доносились звуки ее шагов по комнате. И наконец, все стихало. К этим шагам он чутко прислушивался и, когда они прекращались, еще немного думал о них. Сама мысль, что он в нее влюблен, еще не могла прийти ему в голову, но привычная возня с окном, которое то распахивали, то закрывали, и мирный шорох женской поступи каждый вечер приходили ему на ум, когда дух его, прежде чем уснуть, витал в неясных мечтаниях, подобно тому, как у иных в такие минуты в мозгу всплывает петушиный крик или голос колокола, созывающий на молитву.
Однажды (сдается мне, что это произошло в январе) мадам Рено вошла в его комнату, где он сидел в одиночестве: она поднималась на чердак по каким-то своим делам и заглянула к нему по пути; дверь она приоткрыла очень тихо и с улыбкой переступила порог; Анри сидел, уперев локти в стол и обхватив голову руками, но паркет под ее ногой скрипнул, и он обернулся.
— Это я, — сказала она. — Я вам помешала?
— О, что вы! Входите.
— Ну, зачем же… спасибо… да у меня и времени нет.
И она облокотилась на угол камина, словно боясь упасть.
Анри встал.
— Не утруждайте себя, прошу вас, продолжайте то, чем вы там занимались, оставайтесь, где сидели.
Он повиновался и, не найдя, что в таких случаях следует говорить, застыл, не раскрывая рта. Мадам Эмилия глядела на волосы, обрамлявшие его лоб.
— Так вы все время работаете? — продолжала она. — Вы никогда не выходите; какое… гм… примерное поведение для юноши ваших лет.
— Вы полагаете? — Анри произнес эти слова тоном человека, желающего положить конец беседе.
— По крайней мере, с виду все именно так, — заморгав, отозвалась она и бросила на молодого человека не совсем понятный ему взгляд — сквозь полуопущенные длинные ресницы, что так очаровательно шло ее лицу, причем головка, как всегда, мило склонилась к плечу, а уголки губ чуть приподнялись. — Вы что же, никогда и не развлекаетесь? Вы утомляете себя.
— Да чем же мне развлекаться, чем развлекаться? — повторял Анри, проникнувшись жалостью к себе и думая прежде всего о вопросе, а не о том, как ответить.
— Так, значит, только книги вам и нравятся?
— Более всего остального.
— А-а-а, вы желаете казаться пресыщенным? — рассмеялась она. — А вы, случаем, не разочаровались в прелестях существования? Меж тем вы еще так юны!.. Что ж, в добрый час! Я-то вот, не в пример вам, имею немало прав жаловаться на жизнь: я старше вас и, уж поверьте, больше вашего страдала.
— Не может быть.
— Ох, может, — вздохнула она, подняв глаза к небесам, — я много выстрадала в жизни, — тут она вздрогнула, как бы вновь ощутив боль горестных воспоминаний, — мужчина никогда не бывает так несчастен, как женщина, ведь женщина… Бедная женщина!
При последних словах ключ, который она держала в руках и не переставала вращать, продев в ушко указательный палец, внезапно застыл, конвульсивно сжатый всеми пятью хорошенькими пальчиками мадам Рено.
Ручка у нее была чуть полновата и, возможно, даже коротковата, но так медлительна в движениях, тепла и округла, с ямочками у основания пальцев, приятно умащена, розова и мягка, аристократична — весьма чувственная ручка; она так и притягивала его взор, глаз блуждал по каждой из двух линий, очерчивающих запястье, по всем пальчикам поочередно, с любопытством вбирал в себя цвет этой чуть смугловатой, тонкой кожи с пробегающими по ней синеватыми перекрещивающимися тенями мелких вен.