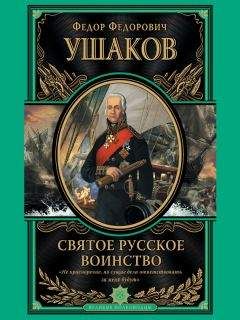По временам шумели на пастбище ливни. Илья-пророк воевал с «этими» — ни дна им, ни покрышки! Так сверкал мечом и так гремел из ружья,— свят еси господи! — что лопалось небо и падало на горы, и как лопнет, так сейчас же что-то черное каждый раз замечется туда-сюда — и шасть под камень... Он, нечистый, чтоб ему пропасть, глумится над богом, кажет ему свое гузно, а пастуху беда: страху не оберешься, да еще и промокнешь до нитки.
К петрову дню выпал снег — и такой глубокий, что трое суток не сходил. Тогда заболело много овец...
Изредка приходили люди из долины. Их обступали, спрашивая наперебой:
— Что нового в деревне?
И, как дети, слушали бесхитростные рассказы о том, сколько люди скосили сена, что бурышки{20} нет, что кукуруза реденькая, а Мочарныкова Елена померла.
Потом все вместе пили за здоровье маржинки. Гости накладывали в бочонки брынзу и снова мирно спускались в долины.
По вечерам у шалаша пылали огни. Пастухи сбрасывали с себя одежду и отряхивали над огнем вшей или, собравшись вместе, соскучившись за лето без женщин, вели нескромные разговоры. Их хохот покрывал сонные вздохи скота.
Иван, прежде чем ложиться спать, звал к себе Миколу, любившего попеть и поговорить:
— Мико!.. Иди сюда, дружок!..
— Подожди, друг Ива, я сейчас! — кричал спузар, стоя у шалаша, и еще оттуда долетала до Ивана его песня:
Чорногора хлiб не родить,
Не родить пшеницю,
Викохує вiвчарикiв,
Сирок i жентицю...
Микола был сиротой и вырос на пастбище. «Нянчили меня овцы»,— говорил он о себе, приглаживая непокорные кудряшки.
Управившись, ложился спузар рядом с Иваном, весь черный, закопченный и освещаемый огнем костра, блестел молодыми зубами, Иван придвигался к Миколе близко, обнимал его и просил:
— Расскажи, дружок, сказку какую-нибудь, ты их много знаешь...
С черного неба капали звезды, и текла по нему белой пеной небесная река.
Над долинами дремали горы.
— Растут,— говорил, точно сам с собой, Иван.
— Кто?
— Горы.
— Прежде росли, теперь перестали...
Микола замолкает, но потом добавляет тихо:
— Сначала не было гор, только вода... Такая вода, словно море без берегов, и бог ходил по воде. Но раз он увидел, что на воде кружится пена. «Кто ты есть?» — спросил. А она говорит: «Не знаю. Живое есмь, а ходить не могу». А это был Ариднык. Бог о нем не знал, ведь Ариднык был, как бог, испокон веку. Дал ему бог руки и ноги, и ходят уже вместе, побратимами. Вот надоело им все по водам ходить, захотел бог землю создать, а достать со дна морского глины не умеет, ведь бог знал все на свете, только ничего не умел. А Ариднык все хорошо умел, да и говорит: «Я бы туда нырнул».— «Ныряй». Вот он нырнул на дно, сгреб в горсть глины, а остальную спрятал в рот, про запас. Взял бог глину, вокруг разбросал. «Больше нет?» — «Нет». Благословил бог эту землю, да и стала она расти. А та, что во рту у сатаны, растет тоже. Растет да растет, уже и рот расперло, нельзя Аридныку дышать, глаза на лоб лезут. «Плюй!» — советует бог. Начал тот плевать, и где плюнет — вырастают горы, одна выше другой, до самого неба доходят. Они бы и небо пробили, если бы бог не остановил их. С тех пор перестали горы расти...
Странно Ивану, что горы такие красивые, такие веселые, а сотворил их нечистый.
— Рассказывай, дружок, дальше,— просит Иван, а Микола снова начинает:
— Ариднык мастер был на все руки, что надумал,— сделал. А бог, если хотел что достать, должен был хитростью выманить у него или украсть. Наделал Ариднык овец, сделал скрипку и играет, а овцы пасутся. Увидел бог, да и выкрал, и уже оба пастушат. Все, что есть на свете — ученость, мудреная штука всякая,— все от него, от сатаны. Где что есть — повозка, лошадь, музыка, мельница или хата,— все выдумал он... А бог только крал да отдавал людям. Так-то...
Раз Аридныку холодно стало, и, чтоб согреться, выдумал он ватру. Пришел бог к ватре и смотрит па огонь. А нечистый уже знает, куда бог смотрит. «Все ты, говорит, у меня украл, а этого не дам». Но видит Ариднык, что бог уже разводит ватру. Так ему стало досадно, что он взял да и плюнул в божую ватру. А из этой слюны и поднялся над огнем дым. Первая ватра была без дыма, чистая, а с тех нор костры дымят...
Долго рассказывает Микола, а когда ненароком вспомнит черта, тогда Иван крестит грудь под безрукавкой. Микола же сплевывает, чтобы нечистый не имел над ним власти...
* * *
Заболел Микола, и Иван вместо него стережет ватры. Против огня, на лавке, спит старший пастух, а там, в углу, где колеблются тени кадушек, стонет больной. В черном котле кипит вода, дым сбивается вверху, под крышей, вылетает в щели между досками. Нечистый иногда дунет в щель, тогда дым валит вовсю и ест глаза, но это хорошо — нельзя заснуть. А сон одолевает. Чтобы отогнать его, Иван устремляет глаза в живой огонь. Он должен сторожить огонь, эту душу пастбища, ведь кто знает, что произошло бы, если б не уберег он его. Уголья тлеют, и даль улыбается Ивану из-под тяжелого навеса и внезапно исчезает. Перед глазами уже плывут зеленые пятна, превращаются в царынки, в пихтовый лес. По царынке ступают белые ноги Марички. Она бросает грабли и протягивает к нему руки. И в то мгновенье, когда Иван вот-вот почувствует мягкое тело Марички у своей груди, из лесу, рыча, выходит медведь, а белые овцы бросаются в стороны и отделяют его от Марички. «Тьфу, ни дна им, ни покрышки!.. Неужели заснул!» Огонь ватры подмигивает ему, старший храпит, а под черным покрывалом подвижных теней стонет Микола.
«Не пора ли варить кулешу пастухам на завтрак?»
Иван выходит из стаи.
Тишина и холод охватывают его. Где-то в загородках дышит скотинка, сбились в груду овцы, слабо поблескивают у пастушьих шалашей ватры. Овчарки обступили Ивана, вытягиваются, разгребают землю и трутся у ног. Черные горы залили долину, как огромная отара. Они проводят свою жизнь в такой тишине, что слышат даже дыхание скота. Над ними расстелилось небо, этот луг небесный, где пасутся звезды, как белые овечки. Существует ли еще что-нибудь на свете, кроме этих двух полонии? Одна разостлалась внизу, другая вверху, а между ними, как малое пятнышко, чернеет пастух.
А может быть, нет ничего. Может быть, ночь уже залила горы, может быть, сдвинулись горы, раздавили все живое и одно Иваново сердце глухо колотится под безрукавкой в бесконечных мертвых просторах? Одиночество, подобное зубной боли, тянет за душу. Что-то огромное, враждебное давит его — это окаменевшая тишина, равнодушный покой, этот сон небытия. Нетерпенье стучит в его виски, за горло хватает беспокойство, и вдруг, встрепенувшись, он с криком, улюлюканьем и воплем бросается на пастбище, чтобы среди гама овчарок дико ревущим клубком нарушить тишину, разбить ночь вдребезги, как камнем стекло. «Ов-ов-ов!..» — откликаются пробужденные горы... «Га-га-га...» —повторяют в тревоге дальние вершины, и снова сомкнулась разбитая тишина. Овчарки возвращаются, скалят зубы и машут хвостами.
Но стало еще печальней, тоскливей. Захотелось солнца, веселого шума реки, теплого запаха хаты, беседы. Грусть завладела сердцем, сладкая тоска. Воспоминания охватили Ивана и заволновались перед его глазами... И вдруг услыхал он тихое: «Ива-а!» Кто-то его звал. Вот снова: «Ива-а!..»
Маричка? Откуда она взялась? Пришла на пастбище? Ночью? Заблудилась и зовет? Или ему померещилось? Нет, она здесь. Сердце колотится в Ивановой груди, но он колебался еще. Куда идти? И снова в третий раз долетает до него откуда-то: «Ива-а!..» Маричка... она... конечно... Он бежит напрямик, без тропинки, туда, откуда слышится голос, но встречает лишь пропасть, и здесь нельзя ни спуститься вниз, ни подняться на пастбище. Стоит и глядит в черную бездну. Тогда ему становится ясно, что его зовет лесная русалка. И, крестясь и оглядываясь испуганно, он возвращается к стае.
Пора варить кулешу. В кипящий котел он сыплет муку, режет ее крест-накрест, и ароматный пар вскоре смешивается с запахом дыма. Старший потягивается... Рассвет. Но кто звал Ивана? Может, это была все же Маричка?
Его тянет взглянуть еще раз, теперь, когда стало светлее. Идет на пастбище. Холодная роса ложится на его постолы. Небо закраснелось, и побледнели звезды. Иван поднимается выше и вдруг холодеет. Где он? Что с ним? Куда девались горы? Воды залили все пастбище, затопили вершины, и луг плывет одиноко в бескрайнем море. С Черногоры подул ветер, полые воды волнуются тихо, чувствуется, как пока еще невидимое солнце растет в глубине, а вот выступила из моря вся седая вершина, с которой стекает вода. Сильнее задышал холод, растут валы на море, а вершины одна за другой пробиваются сквозь белую пену. Мир будто возродился. Воды стекли с вершин и ходят уже под ногами, а солнце подняло в небе свою корону и вот-вот покажет лицо, а из стаи доносится печальный голос трембиты и пробуждает от сна полонину.