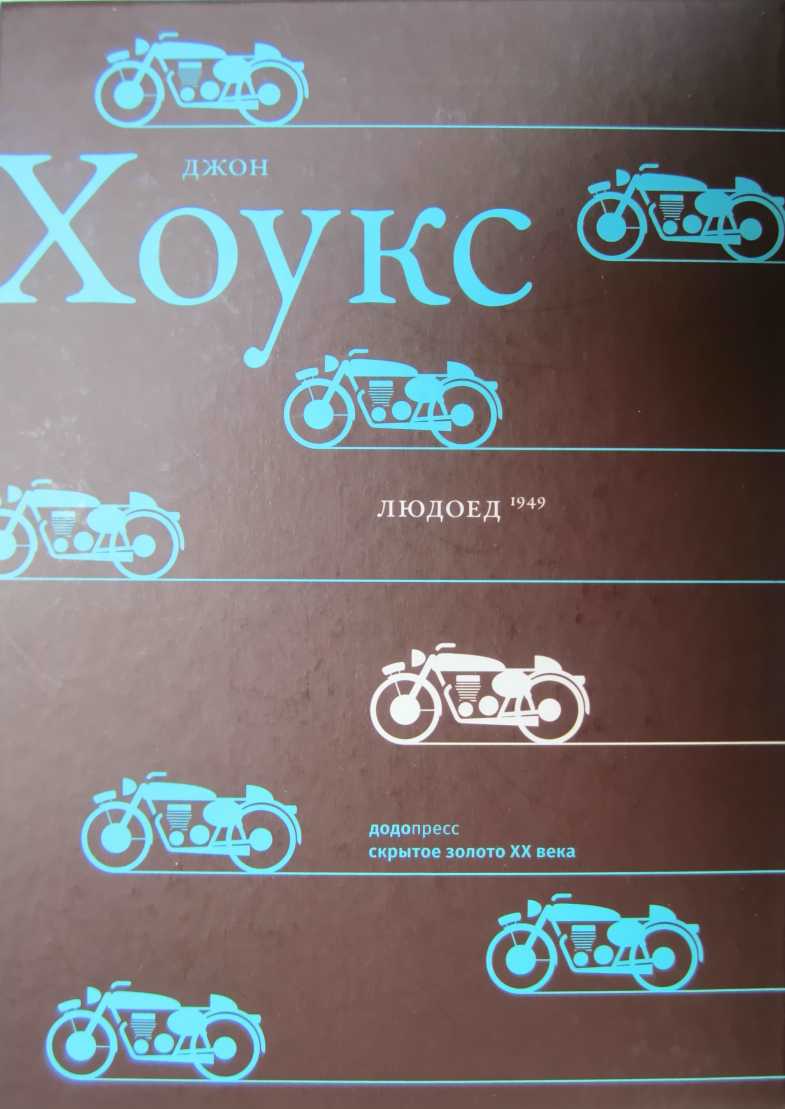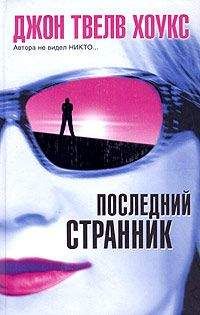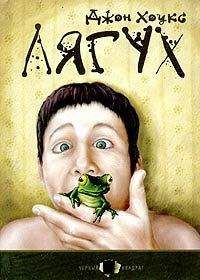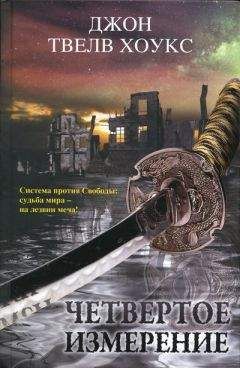мусора и земли, как на сугроб. Спал он на армейской раскладушке, томился по елям и, каждый день кряхтя и бросая весь свой вес на замерзшие предметы стульев, пружин и рам от картин, ощущал, как сила его отпадает. Он помнил фотографии свирепых тигров и те дни, когда все мужчины носили короткие гетры или серебристые позументы, а от гор до
Браухауса [7] возникали лагеря и залы собраний, нацеливались точные окуляры'. Он думал об ослике с девчачьим хвостиком и людских костях, перемолотых в пищу. Но караулка ныне стояла пустая, отец его, кто был Кайзером, умер, а нянечек из учреждения забрили в капралы. Он взялся сидеть на верхушке лестницы, поджидая, чтобы дверь открылась.
Мадам Снеж, Стелла Снеж во дни кружевных сапожков, парасолек и Больших Балов, любила белых гарцующих лошадей, квадратноплечих мужчин с шишаками, торчавшими на касках у них, и лоснящиеся колбаски, что пучились, как задние свиные ножки, вися в кухне просторной, что твой дворец. Для юной барышни бюст у нее имелся что надо, и множество раз сиживала она в золотой оперной ложе, ноги отвердевали, словно бы позировала она для картины. Пищу в доме ее отца подавали оправленной в слои жира, а из корзинки у кровати она ела исполинскую грушу гибридного сорта. На свиданья ходила с молодыми людьми, одетыми в черное, которые умели загнать коня до смерти зимним днем и бросить его замерзать, ощущая длань адского ангела, или же с усатыми студентами в фуражках с оранжевыми околышами. Ей хотелось конфект, ввозимых из Франции и Голландии, она слышала, как сипло поют любовники, и, понтируя, казалась она образом проплывающего лебедя. Рту ее завидовали извращенцы, и когда страну сотрясли первые грохоты канонады, рот закрылся и она принялась за чтение. Она маячила восковою уклончивой святой, когда мать ее упала пред нею на улице после рынка, из груди ее торчал кусок металла, а самолет разбился. Полицейский дунул в свисток, и из всякой дыры побежали люди, маяча пред ее перепуганными глазами, как тараканы. Именно тогда вообразила она мраморные балясины и канделябры нескольких предшествовавших поколений и увидела, как странные мужчины отчаливают на обледенелых судах. В разграбленных лесах медленно рокотали пулеметы. Сестра ее, юная и угрюмая, вырывала из книг страницы и прыгала в снегу. Стелла пристрастилась к картам, азартной игре, к пению и, наконец, опять к картам, а между тем скрещенные варварские мечи висели у нее над головой, и она проносилась сквозь бронированные столетья, почтенная карга.
Двери туго затворялись, и возжигались одиночные лампы. Ютта тетешкала невылепленную девочку, а сын ее, неуклюжий, как пупс, бегал по холодной земле. Многих мальчишек сокрушило поступью чудовищ, и никакие воинские барабаны не гремели дробью, хотя женщины подбирали подолы, дабы ловить в них слезы. Тени вокруг ребенка казались цирковым зверьем, стонали из пустых парадных, а челюстям их нечего было калечить. Вокруг него ветер принимался вопить так, словно в щелях самолетных крыльев. Дитя бежало, но лишь вострый глаз различил бы, что оно мальчик, ибо лицо его, руки и волосы были так же плоски, как и у сестры, а свет из глаз столь же прозрачен и угрюм, как и ночь. И все равно Герцог повесил трость свою крюком на руку, подтянул замшевые перчатки и устремился за ним, манжеты брючин намокли от грязи. Когда в Мясницкой лавке погас свет, дитя побежало еще быстрей.
Ставни в дому Бургомистра были закрыты, каковыми и оставались с поры воздушных налетов. Воротник ночной сорочки испачкался и порвался, и он натянул покрывала на голову. Ему пахло сырым деревом, камнем, гусиными перьями. А когда услышал шаги, бегущие по улице внизу, — содрогнулся; ибо как гунн, лишь он знал ответственность и значение герба, ужас народа, оставленного без трибунала и с лишеньями. Герцог прошел мимо дома Бургомистра, не боясь чужой руки во тьме, тихонько насвистывая себе под нос, но глаза его были остры, и он увлеченно двигался по следу на запах. Тут из черноты выступил человек, только что из переулка, руки еще влажны, сильно разит спиртным. Он пошатывался, и столкнулись они под окном спальни Бургомистра. То был пьяный Счетчик Населения. Он отшагнул назад, вскинул взгляд на высокую фигуру.
— А, херр Герцог, — произнес он, и глаза его обшарили лицо.
— Вы ошиблись, — сказал Герцог и толкнулся дале.
Звука не раздалось. Годы миновали с той поры, как люди прекратили разговаривать, разве что обрывками фраз:
— Мадам Снеж велела мне сгинуть… — И слова эти произносились лишь под строжайшим секретом и тишайшим из голосов, ибо все они располагали одним и тем же опытом, но все равно предвосхищали чуждое ухо, ждали недоверчивых глаз. Даже когда накрепко захлопнулась дверь мясницкой лавки, она, казалось, произнесла:
— Тихо. Я вообще-то не очень закрылась.
— Верьте лишь в десять Богов, — говорило большинство людей. — Ибо Зло — существо пунктуальное; отцы наши и матери учредили Государство; тюрьмы наши с тех пор опустели; Корона должна перейти из рук в руки; а Штинц нашим детям хороший черт. Деньги у нас не станут гореть вечно; даже коровье копыто вооружено; один из наших бесов — попросту время суток. Мы припоминаем обряды Виттенберга [8], и наши буйные жены бьют прекрасных юных девушек. — Когда беседовали они о тьме погоды либо нехватке одежды — ссылались на одного из десяти Богов Утраты, кому не смели доверять. А когда говорили они, губы их едва шевелились, и неспособны они были поверить собственным словам, ожидая, что из середки стола подымется какой-нибудь деятель и не одобрит или рассмеется. Северной породы были они, и молчаливы, племенной клич давно умер у них на раскатистых языках.
Счетчик Населения убрался в сторону, пьяный, но себя помнил, опасаясь издать хоть звук. Ремень провисал у него на поясе, глаза перекатывались словно бы столбиками цифр. В глубине ума он ворочал ненависть к Бургомистру, который свидетельствовал казням с закрытыми глазами. Надвинув кепку поглубже на уши, он тихонько постучался в дверь «Мутной Цайтунг» — городской газеты. Под конец каждого вечера он заходил в Газету, и вот тогда-то на сердце у него легчало и возвращалось былое воодушевление. Каждая литера в печатных формах шрифта забита была в соседнюю, все клише размозжены молотками, а контора пропахла гуммиарабиком и полусветом от сломанных наглазников. Бюро с выкат-ными крышками сплошь раскоканы, а по бутылкам, наваленным в углах, лазали мыши.
Газетой владел супруг Ютты, но он потерялся средь тысяч в Сибири, и это я, Цицендорф, друг его, высиживал каждый час дня, размышляя о