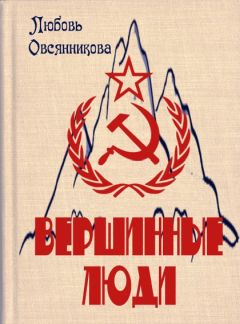Все дни мы лениво проводили на пляже. Ни возня и неуемность ошалевших детей, ни окрики родителей, ни мячи и музыка подростков — ничто не мешало нам. Словно будучи извечной принадлежностью этих песков, мы млели под солнцем, изредка переворачиваясь с боку на бок.
На Азовском море — первозданный покой. Мелководное, оно не гудит глубинами, не шумит, не рокочет, не плещет, не бьет волной. Как прирученное животное, оно добродушно лижет вам ноги, обнимает и колышет в своем лоне, или шаловливо отталкивает от себя вдруг набежавшей волной. Прогреваясь до самого дна, исторгает из себя, выбрасывает в свои испарения всю мощь мирового океана — его пряность и аромат, сообщая им остроту и тягучесть, делая их обволакивающими и целебными. Тонким слоем, конденсируясь из надводной части на вашем теле, оно растекается по нему, защищая от палящих лучей солнца, пропуская к порам кожи только то, что ей полезно, и отражая от нее лишнее. Под его благодатным воздействием вы покрываетесь темным загаром, который не шелушится, а держится долго-долго и почти через всю зиму проносит запах лета.
Домой я возвращалась неотразимо красивая — темная блестящая кожа; бледный, еле просвечивающий, румянец на щеках, сообщающий лицу девичью одухотворенность; худая, стройная и длинная фигура с копной густых соломенных волос, уложенных в замысловатый узел где-то высоко над землей, на макушке.
Описывая, так воодушевлено, собственную внешность, я вовсе не боюсь показаться самовлюбленной. Легко понять, что в этом отношении к себе я выражаю отношение к миру. Ибо принадлежу к людям, которые прежде остального замечают свое окружение, явления внешнего мира, и воспринимают их как неизбежную непререкаемость, в первую очередь и во всем отдавая ему предпочтение. Только наглядевшись и изучив объективную реальность, я обращаю внимание на себя: долго и предвзято присматриваюсь, гожусь ли этому миру, вписываюсь ли в него, соответствую ли.
Глядя на себя со стороны, я иногда думаю, что в этом сказывается где-то глубоко упрятанный комплекс неполноценности, неуверенности в своих возможностях или, на-оборот, чрезвычайная деликатность натуры, гипертрофированная ответственность перед живущими за тот след, который я оставляю по себе. Не знаю. Но я у себя не стою на первом месте.
Женщине не пристало бы в этом признаваться потому, что эта черта не делает ее счастливее, она — скорее несчастье, которое надо скрывать. Но сейчас я не женщина, я — повествователь. И задача моя не в том, чтобы заботиться, какое впечатление произведу сама. Мой долг — донести до читателя, преломив через призму своей индивидуальности, образ другого человека. Хочу открыть для понимания, какова эта призма и как происходило это преломление внутри ее.
Следовательно, о внешности своей я говорю для того, чтобы подчеркнуть: если уж я себе так понравилась, то вообразить не трудно, каким прекрасным мне представлялось все, что было вне меня.
Душа пела и ликовала в интуитивных предощущениях чего-то волнующего, значительного. Мне все казалось безукоризненным, без изъянов и недостатков, без темных сторон, двусмысленностей и подводных течений, без скрытых значений. Я принимала жизнь как праздник, как вечную гармонию стремлений и свершений, достижений и новых замыслов.
Какое чудо производит с нами безмятежно проведенный отпуск!
Нет, не о себе я пишу эти строки, а о том, кого не называю по имени, потому что еще не знакома с ним, совсем не знаю, кто он, что за человек, что собой представляет. Я только видела его несколько раз. Помните?
Но уже пропускаю через кристалл своей души, через систему оценок, сформированной во мне природой, через присущие только мне восприятия и являю миру наш общий сплав: он, прошедший через меня. Кто из нас больше значит для читателя в этой сумме начал: он ли — стремительный, динамичный, кажущийся вечно молодым; или я, интуитивно почувствовавшая его разносторонность и необъятность и теперь пытающаяся от него, как от уникального следствия, пройти извивистыми путями причин до тайны создателя и создания. Он — данность, я — толкователь. Он — явление, я — исследователь, пользующийся возможностями своей души и интеллекта, как научным инструментом. Необходимо много и подробно говорить о состоянии этого инструмента, чтобы можно было сравнить повествователя и его героя и со стороны постичь степень «отклонения к совершенству», возникшую между ними. Его ли, моей? — миром правит относительность.
Моя устремленность к нему, наверное, сформировалась задолго до нашей встречи, как задолго до видимого появления кометы Галлея началось ее влияние на Солнечную систему. Еще тогда, когда однажды в детстве, идя с родителями по замерзшему пруду, погрузила взор в темные выси и впервые содрогнулась от поразительной картины звездного неба — яркого в широтах нашего юга. Во все времена года прибившейся к земле малой птахой замирало мое село, и беспредельный Космос властвовал над ним до утра, накрыв его незначительный пятачок по всей окружности горизонта мерцающим куполом. Всматриваясь в его глубины до полной отрешенности, упиваясь своей принадлежностью к нему, наслаждаясь, словно греховной, уединенностью с ним, я слышала оттуда вещие голоса.
Перебирая в воспоминаниях эстетику этого человека, анализируя ее своеобразие и самобытность, впитавшую общепринятые понятия только как часть его целого, понимаю, что на всех этапах нашей жизни: в детстве и юности, в зрелости, до которой уже докатились мы оба, — я и он одинаково понимали стихии, взлелеявшие планету и взлелеянные планетой.
Меня завораживал огонь, таинственная его субстанция, живущая в переливах и бликах, обманно кажущихся однообразными; его — неуемная жажда пространств.
В отношении огня, однако, человек проявил характер. Он объединил в нем свет и тепло — благодатные свойства — в единую ипостась, без которой жизнь была бы невозможна, и, поклоняясь ей, дерзко обуздал безрассудную алчность, свойство всепожирания, научившись рационально управлять ею.
Море по большому счету я увидела уже в зрелом возрасте, и оказалось, что — необъяснимо и безосновательно — люблю его любовью непреходяще страстной. Не умеющая плавать, боящаяся глубины, не рискующая отдать себя воле равнодушных волн, все же люблю его. Мне нравится смотреть на него, наблюдать медленно и торжественно протекающую жизнь, вдыхать его разреженную плоть — мелкие брызги разбившихся о скалы накатов. Меня привлекает его самообладание, которое властью собственных берегов усмиряет, подавляет в себе разъяренность и гнев, рвущиеся из монолитной массы воды пенящимися исполинскими гребнями, что ревут и неистовствуют.
И ветер. Нет ничего интереснее ветра. Когда его немереные объемы меняют свои координаты, возникая то тут, то там, обозначаясь в колебаниях растений и приобщенных ароматах, беспрепятственно проникают в мельчайшие щели, словно дозором обходят свои владения, понимаешь грандиозность ветра, несокрушимость его, неумолимость.
Зеленый мир, безмолвно живущий у поверхности земли, не так сильно звал и манил меня. Но в теплые летние ночи неумолчный шелест тополей — прислушайтесь! — будил внутри щемящую, сосущую тоску, от которой хотелось кричать, оплакивая все несчастья и потери, случиться которым еще и час не пришел.
Меня сжигало бессильное желание переменить трагическое устройство бытия, при котором власть отдана необратимому времени. Возникал порыв преодолеть смерть и тлен — проклятие богов, восстановить утраченную некогда справедливость и вознаградить венец природы — чистую душу человека — бессмертием. Время возникает там и тогда, где и когда начинается движение, как его мера. И как тут быть, если любя его, всякое — относительное и абсолютное, поступательное и ускоряющееся, — желая видеть новые ландшафты и формы, цвета и состояния, мы не может победить его меру, свести ее качество для него к пренебрежимо малому значению?
Мы все, подражая предшественникам, нашим великим учителям, заново открываем мир. Но делаем это быстрее и успешнее, чем древние, и уже в юности дополняем к четырем интуитивно понятным стихиям пятую — осознанную нравственность, что и есть Душа человеческая. Так было и с нами: со мной и этим человеком, о котором пишу. И все же мне представляется, что все на свете воспринималось нами в том сопряжении, которое я пытаюсь проследить. Потому, что когда я обнаружила его присутствие в мироздании, то ощутила мистический, суеверный озноб, как будто, посмотрев в зеркало, увидела знакомые черты, а в отраженных глазах — знакомую душу. Но видение расплывалось и мерцало в отсветах исходящего от него сияния, и была в нем глубина, сродни только беспредельности.
Да, мы открываем для себя стихии, и, считая их неизменным фоном жизни, забываем об этом. Нам не по плечу их масштабы, мы бессознательно уклоняемся от них, погружаемся в пучину мелких забот, избираем именно их смыслом существования. Являясь частичкой одной из них, неся в себе искорку высшей души — божественной, мы не всегда откликаемся на ее зов, считая это блажью. Неосязаемая душа наша, в отличие от иных стихий, — нематериальна, но призвана возглавить бытие материи. Какая же это блажь? Возможно, в этом и есть его отличие от других, его особенность? В том, что он понял истину мироустройства и взял на себя миссию так же влиять на ментальность масс, как Гольфстрим изменяет климат материков, и, обремененный их безоговорочным и беспрекословным повиновением, идет с той ношей.