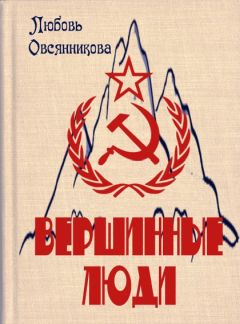Сермяжная правда заключалась в том, что книги продолжали оставаться дефицитом, и их не только мелким, но и крупным оптом отдавали не всем, а только своим знакомым. За них, может быть, даже надо было переплатить. А тиражи книг повышенного спроса вообще продавались до начала работы ярмарки, еще в номерах гостиницы — сразу как участники ярмарки приезжали и заселялись. Какой мелкий опт, какая отсрочка платежей? — об этом смешно было даже мечтать. От меня шарахались, недоуменно пожимали плечами, не находя слов в ответ на мои предложения изменить в договоре условия сделки.
Убедившись в бесперспективности попыток заполучить здесь книги с отсрочкой платежей, в наивности своего оптимизма, в тщетности надежд, я скисла. Явилось ощущение незначительности, беспомощности, затерянности в чужом, неприветливом мире, который не хотел открывать посторонним — непосвященным! — свои врата. От досады и холода, от мелькания незнакомых лиц, от того, что я была здесь одна и далеко от дома, от своей никомуненужности я почти плакала. Впервые от меня абсолютно ничего не зависело, впервые я не могла добиться желаемого результата. Это не вписывалось в предыдущий жизненный опыт, и я чувствовала себя не в своей тарелке.
Медленно шла я вдоль зала, превратившись в незаметный комочек потухшего энтузиазма и восторга, прежней крылатости, закончившейся увяданием крыльев. Взглядом загнанного зверька всматривалась в воодушевленные лица других людей: кто полностью продал привезенные тиражи, кто купил то, что хотел, — каждый был счастлив по-своему.
А мне не достался даже «Железный театр» Отара Чиладзе, сделанный «Советским писателем», не досталась «Новая история Мушетты» Жоржа Бернаноса, выпущенная «Художественной литературой» в серии «Зарубежный роман ХХ века», не говоря уже о «Парфюмере» Патрика Зюскинда, вышедшего где-то в Баку, или о романах Айрис Мердок «Море, море» и «Дикая роза», впервые переведенных на русский язык. Эти издания не имели массового спроса, были интересны лишь подготовленному читателю, ищущему в литературе не отдых и занимательность, а предмет для размышлений. Даже это я не смогла заполучить, несмотря на то, что их многие обходили стороной, охотясь за модными, ажиотажными новинками, такими как «Наследник из Калькутты» — такого гениального произведения, что сейчас его уже и не помнят.
На этом фоне счастья и успеха мною все полнее овладевало сиротство, одолевала непреодолимая неприкаянность, унижающая незамечаемость меня этой алкающей слова толпой. Чувство горького, беспредельного одиночества — окончательного, из которого уже не выйти! — сжигало меня, и от того огня оставались лишь бессмертные ноты кантаты Джованни Перголези{19}. Они звучали под высокими потолками здания соединенными голосами двух сопрано и падали вниз на меня одну… Оплакивание человеческой участи… нет ничего скорбнее…
Вдруг взгляд зацепился за что-то обнадеживающее. Оно мелькнуло и пропало. Мои глаза беспокойно заметались по залу в поисках где-то загулявшего спасения, не понимая, в чем оно состоит и что это было. Павильоны, стенды, экспозиции, книги и люди… люди… Все плывет в однообразном беспокойном потоке, потерявшем для меня разноцветную привлекательность, окрасившемся в один цвет, имя которому — недоступность, трепещущая в двух дивных сопрано, ошеломленных разверзшейся бездной вечности. Возбужденные лица — их много, горящих одинаковым огнем удачи и удовлетворения, успеха и энтузиазма.
Но вот одно! Этот человек снова оглянулся и его лицо со спокойными глазами и полными слегка поджатыми губами, отличающееся бесстрастностью, сосредоточенностью, выражением озадаченного внимания, опять всплыло над хаосом других лиц.
Вмиг не стало противоречий. Гармония бытия залила меня тихой верой в непобедимость счастья. Взрывом ударили по глазам, вернувшись в действительность, краски и оттенки мира, его формы и их переливы.
Как утопающий хватается за соломинку, так и я сохранившимся, не погибшим от отчаяния зрением впитала в себя знакомость этих черт. Последний всплеск страдающей надежды поднял меня над трясиной, к кислороду, и я увидела, что мы оба выпадаем из бурлящего потока общей массы; отличаемся, каждый отдельной непохожестью, от снующих, заряженных динамикой субъектов. Ни реакция на внешний мир, ни скорость пребывания в нем у нас одинаково не совпадала с другими. Река событий, обтекая нас, словно мы были утесами, торчащими над ее гладью, несла свои воды из одного мгновения в другое. А мы, объединенные безучастностью и отстраненностью, пребывали в нездешних пределах, в иных измерениях — обольстительных и тревожных.
Но было в нашей одинаковости нечто разъединяющее, к чему я потянулась — неосознанно и навсегда. Заключалось оно в причинах, по которым мы были вне суеты: меня в нее не приняли, а он — стоял в стороне по своей воле. Он созерцал ее, изучал, управлял ею. Он снова был над событиями, выше их, значительнее. Он создавал их. В нем чувствовалась власть и уверенность в своей власти, надежность и знание о ней, неуязвимость — осознанная и сознанием доведенная до степени абсолютного оружия.
В следующую минуту я вспомнила это лицо и тот наполненный заботами день, положивший начало мосту, соединившему кабинет моего директора с этим залом. И свою дерзость, и его иронию. Кроме этого факта ничто не всколыхнуло память, все другие встречи вылетели из головы, отодвинулись в небытие, исчезли, ибо не имели значения, как не имели значения и детали первой встречи. Важным было то, что он приехал сюда из моего родного города, где у меня есть дом, где меня ждут и от этого мне всегда хорошо. Выходит, я здесь не одна! И я помчалась следом за ним.
Он шел не спеша, спокойно озирал зал, ни к чему особенно не присматриваясь, не делая попыток куда-то приблизиться, только все смотрел и смотрел на лица людей, странным образом гуляя взглядом над их Ногами. Через его правое плечо свисала сумка, перекосившая короткую серую ветровку, прозаически превращающая его не в воплощенное везение, каким я его восприняла сейчас, а в обыкновенного человека.
Неприкаянность и безысходность давили на меня, пригибали к земле, в горле застряли слова жалобы, высказать которую было некому. Казалось, что два-три живых слова, сказанные мной или мне, отвалят камень от моей души. Но я никого не знала, ни с кем не смогла познакомиться. Мне не с кем было перемолвиться теми спасительными двумя-тремя словами.
И вот он! — независимый и сильный, излучающий непререкаемую уверенность в праве на пребывание здесь, идет походкой хозяина, свысока смотрит на мишуру и никчемность этих логотипов, визиток, договоров и накладных. Да пропади они все пропадом! Ну и что, что сумка через плечо? Знай наших! Я устремилась с удвоенной энергией вдогонку за ним.
Смирив первый порыв схватить его за руку, крикнуть: «Привет, как здорово, что и вы здесь!» — я сбавила шаг и пошла, не отставая, стараясь успокоить биение сердца. Вскоре я поняла, что его интересует происходящее возле издательства «Молодая гвардия». Но влиться в ряды публики, штурмующей его, он намерения не выказывал, равно как и намерения любым другим путем завладеть вниманием работников издательства. Ни те, ни другие его, похоже, не интересовали. Черт его знает, зачем ему это надо! Что он тут делает?
Я поравнялась с ним.
— Здравствуйте! Кажется, вы тоже из Днепропетровска, — при моем-то опыте общения могла бы придумать что-нибудь другое, но не придумала. Зато радость в голосе была неподдельной.
Заливала, обволакивала его моя радость! Как это могло не понравиться? Да-а, через мгновение стало очевидно, что не всегда его глаза излучали свет и теплоту, которые я так долго помнила. На меня уставился холодный, заглатывающий, зыбкий взгляд, как будто я все-таки провалилась куда-то в ту трясину отчаяния, из которой только что выбралась, и равнодушная стихия спокойно сомкнула надо мной холодный зев. Торжествующее презрение глубже прорезало уголки его губ. Вдоль них обозначились вертикальные складки, в которых родились и затаились тени высокомерия. Глухим возмущением заколыхались крылья носа: как кто-то посмел приблизиться к нему? Во всем его облике обозначилось превосходство, неприступность, пренебрежение к миру. Даже воздух вокруг него, казалось, был пропитан миазмами лучащегося из него величия. Я не узнавала его. Я ничего не хотела слышать из его уже открывшихся уст!
— Из Днепропетровска, — сказал он и пошел дальше, не замечая меня.
Боже, как мне снова стало плохо! Вместо приветливости встретить такую чудовищную безучастность — это сделало меня еще несчастнее.
Легко впадая в уныние, я так же легко выходила из него. Целыми днями могли длиться мучительные переживания, разрывавшие меня на части, приносящие страдания. Но капля участия (даже не участия — понимания, даже не понимания, а вежливости) снова возвращала меня к жизни. Такого пустяка было достаточно, чтобы растерянность и паника отступили, остались позади. Теперь, правда, и это помогает все реже. А тогда! Тогда я интуитивно искала, нащупывала опору, в которой нуждалась моя уставшая воля. Поэтому, оценив и запомнив его реакцию, тем не менее бессознательно пренебрегла ею и вновь пролепетала: