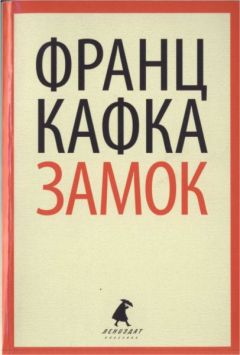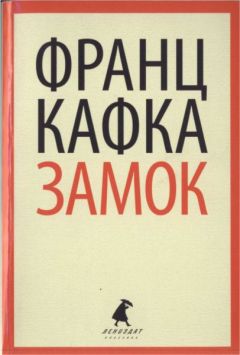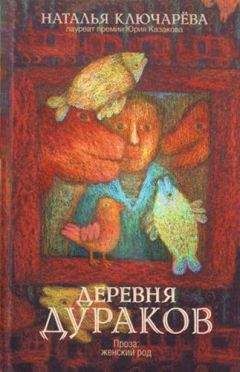Этого К. тоже не знал, он знал так мало, он даже не понимал, серьезно ли Бюргель требует ответа или так, для вида. «Дал бы ты мне лечь в твою кровать, — думал он, — я бы тебе завтра днем, а еще лучше — вечером на все вопросы ответил». Но Бюргель, кажется, не обращал на него внимания, его слишком занимал вопрос, который он сам себе задал:
— Насколько мне известно от других и из моей собственной практики, у секретарей имеются относительно ночных допросов следующие соображения: ночь потому менее пригодна для переговоров с посетителями, что ночью трудно или попросту невозможно полностью сохранить официальный характер переговоров. Это касается не внешней стороны: при желании соответствующие формальности, естественно, могут соблюдаться ночью точно так же, как и днем, дело, следовательно, не в этом. Но ночью смещаются официальные оценки. Ночью непроизвольно появляется тенденция оценивать вещи с более приватной точки зрения; доводам посетителей придается больший вес, чем это надлежит; к оценкам примешиваются совершенно посторонние соображения, учитывающие общее положение посетителей, их страдания и заботы; необходимый барьер между посетителями и чиновниками, пусть даже внешне он и безупречно присутствует, расшатывается, и там, где обычно — как это и должно быть — только предлагаются вопросы и поступают ответы, иногда, кажется, происходит какая-то странная, совершенно неподобающая беседа человека с человеком. Так, по крайней мере, говорят секретари, то есть такие люди, которые по роду своей профессии одарены совершенно исключительной чуткостью к подобным вещам. Но даже они — это уже не раз обсуждалось в наших кругах — во время ночных допросов слабо ощущают указанные неблагоприятные воздействия, напротив, они с самого начала стараются противодействовать им и в итоге считают, что проделали совершенно исключительную по качеству работу. Но когда потом перечитываешь эти протоколы, часто удивляешься их явным, очевидным недостаткам. И именно эти ошибки, в частности, эти все новые, наполовину незаконные успехи посетителей таковы, что их, согласно нашим инструкциям, уже нельзя — по крайней мере, обычным коротким путем — исправить. Когда-нибудь они, совершенно определенно, будут исправлены одной из контрольных служб, но это послужит только восстановлению законности, а тому посетителю повредить уже не сможет. Разве при таком положении дел жалобы секретарей не являются весьма обоснованными?
К. уже некоторое время пребывал в полудремотном состоянии, теперь его снова разбудили. «К чему это все?» — спрашивал он себя и смотрел на Бюргеля из-под полуопущенных век не как на чиновника, обсуждавшего с ним затруднительные вопросы, а только как на что-то такое, что не давало ему уснуть и в чем усмотреть какой-то еще другой смысл он не мог. А Бюргель, целиком поглощенный ходом своих рассуждений, усмехнулся, словно ему удалось-таки немного сбить К. с толку. Однако он был готов тут же вернуть его на правильный путь.
— Ну, — сказал он, — признать эти жалобы полностью обоснованными все-таки тоже нельзя. Хотя ночные допросы нигде впрямую не предписываются, и, следовательно, когда пытаются их избежать, никакие инструкции не нарушаются, но определенные обстоятельства, перегруженность работой, характер занятий чиновников в Замке, крайняя нежелательность их отлучек, инструкция, в которой сказано, что допросы посетителей должны проводиться только после окончательного завершения остального расследования, однако сразу же после такового, — все это и еще многое другое сделало тем не менее ночные допросы неизбежными и необходимыми. — Но если они теперь стали необходимостью, то, говорю я, ведь это тоже, по крайней мере, косвенно, есть следствие инструкций, и осуждать в принципе ночные допросы означало бы тогда почти что — я, естественно, немного преувеличиваю для того, чтобы в виде преувеличения я мог это высказать, — означало бы тогда ни более ни менее как осуждать инструкции.
С другой стороны, за секретарями, надо полагать, сохраняется право пытаться в пределах инструкций обезопасить себя по мере возможности от ночных допросов и их, возможно, лишь кажущихся недостатков. Это они, собственно, и делают, и притом в широчайших масштабах. Они допускают переговоры только по таким вопросам, которые вызывают возможно меньшие — в любом смысле — опасения, тщательно проверяют себя перед допросами и, если результаты проверок этого требуют, отказываются — даже и в последний момент — от любых допросов, укрепляют себя, часто при этом по десять раз вызывая какого-нибудь посетителя, прежде чем они им действительно займутся, охотно позволяют замещать себя коллегам, которые в рассматриваемом деле некомпетентны и поэтому могут с большей легкостью его вести, или, по крайней мере, назначают переговоры на начало или конец ночи и избегают промежуточных часов, — таких мер существует еще много, с этими секретарями не так-то просто справиться, они обороноспособны почти в той же мере, в какой уязвимы.
К. спал; правда, это не был настоящий сон: он слышал слова Бюргеля, может быть, даже лучше, чем во время прежнего смертельно-усталого бодрствования; слово за словом падало в его уши, но докучное сознание исчезло, он чувствовал себя свободным, уже не Бюргель держал его, а он сам иногда вдруг нащупывал Бюргеля; в глубины сна он еще не погрузился, но погружение уже началось. Никто ему больше в этом не помешает. И ему чудилось, будто бы он тем самым добился большой победы, и будто уже собралось тут и какое-то общество, и он — или кто-то другой поднял бокал шампанского в честь этой победы. И будто бы для того, чтобы все узнали, в чем тут дело, его победоносная борьба повторялась еще раз или, может быть, даже не повторялась, а только теперь происходила, и уже раньше была отпразднована, и не надо было прекращать ее праздновать, потому что исход, к счастью, был известен. К. нападал на какого-то секретаря, секретарь был голый и очень похожий на статую греческого бога. Это было очень смешно, и К. чуть усмехался во сне тому, как этот секретарь с его гордой позой каждый раз пугался атак К. и почти уже выставленную вперед руку со сжатым кулаком должен был поспешно использовать для того, чтобы прикрывать свою наготу, и все равно делал это слишком медленно. Борьба длилась недолго. К. шаг за шагом — и это были очень большие шаги — продвигался вперед. Да была ли вообще борьба? Не было никаких серьезных препятствий, разве что время от времени — писк секретаря. Этот греческий бог пищал, как девочка, которую щекочут. И наконец он исчез, К. был один в большой комнате; готовый к борьбе, он оглядывался по сторонам в поисках противника, но там никого уже не было, и общество тоже разошлось, и только на полу в лужице шампанского лежал разбитый бокал. К. раздавил его совсем, но осколки впились в ногу. Вздрогнув, он все-таки опять проснулся; ему было плохо — как бывает маленькому ребенку, когда его разбудят. — Тем не менее, когда он увидел оголенную грудь Бюргеля, у него проскользнула мысль, пришедшая из сна: вот же он, твой греческий бог! Так выщипай ему перья.
— Но все-таки имеется, — произнес Бюргель и задумчиво устремил взгляд на потолок, словно искал в памяти примеры, но не мог ни одного вспомнить, — но все-таки у посетителей, несмотря на все меры предосторожности, имеется одна возможность использовать эту ночную слабость секретарей — если по-прежнему считать, что это их слабость. Правда, возможность очень редкая или, правильнее говоря, почти не существующая. Она состоит в том, что посетитель является посреди ночи без вызова. Вы, возможно, недоумеваете, почему это происходит столь редко, ведь это кажется таким очевидным. Ну да, вы не в курсе наших дел. Но даже вам все-таки должна была броситься в глаза безупречность нашей служебной организации. А из этой безупречности следует, что всякий, кто имеет какую-либо просьбу или кто по каким-то другим причинам должен быть допрошен, тут же, без промедления, большей частью еще до того, как он сам объяснит себе все дело, и даже еще до того, как он сам о нем узнает, — уже получает повестку. Допрашивать его в этот раз еще не будут, — как правило, еще не будут, настолько дело еще не созревает, но повестка у него есть, явиться без вызова он уже не может, он может, самое большее, прийти в ненадлежащее время, в этом случае ему просто указывают на дату и час явки, и когда он потом приходит снова в надлежащее время, его, как правило, выпроваживают, это уже не составляет труда; повестка в руках посетителя и пометка в актах — это для секретарей хотя и не всегда достаточное, но все же сильное оружие защиты. Правда, все это справедливо только для компетентного в данном вопросе секретаря, возможность же нападать ночью врасплох на других для каждого остается открытой. Однако это едва ли кто станет делать: это почти бессмысленно. Прежде всего, это бы очень ожесточило компетентного секретаря; хотя мы, секретари, в отношении работы ревности друг к другу определенно не испытываем, каждый и так везет слишком громоздкий, поистине не скупясь нагруженный воз работы, но терпеть со стороны посетителей нарушения границ компетентности мы никоим образом не имеем права. Многие проиграли свое дело только из-за того, что, не надеясь на успех в надлежащем месте, пытались проскользнуть в ненадлежащее. Такие попытки, кстати, обречены на провал еще и потому, что некомпетентный секретарь, даже когда он застигнут ночью врасплох и готов помочь, именно вследствие своей некомпетентности при всем желании едва ли может сделать больше, чем какой-нибудь рядовой адвокат, а в сущности — много меньше, потому что у него ведь нет, — даже если бы в ином случае он и мог что-то сделать, поскольку он все-таки лучше знает потайные ходы права, чем все эти господа адвокаты, просто на вещи, в которых он некомпетентен, у него нет никакого времени, ни одной минуты он не может на них потратить. Следовательно, кто же станет при таких шансах тратить свои ночи на возню с некомпетентными секретарями; к тому же если посетители помимо своих обычных занятий вздумают являться по всем повесткам во все компетентные инстанции, то ведь они будут целиком загружены — разумеется, «целиком загружены» в посетительском смысле, что, естественно, еще далеко не то же самое, что «целиком загружены» в секретарском смысле.