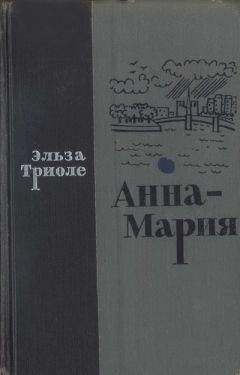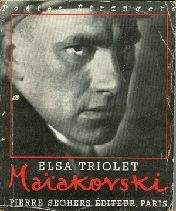— Люди, вроде вас, у которых на языке одно только слово — свобода, — продолжал торговец картинами — Анна-Мария почему-то решила, что он торговец картинами, но в конце концов он мог оказаться кем угодно, — именно такие люди, как вы — всех в тюрьмы и пересажали! Совсем как в России, нет, извините! В Советском Союзе! Вот они где у нас сидят, ваши русские!.. Они оказались сильнее и победили, а дальше что? Кончено, хватит, в зубах навязло! Сопротивление, русские! Надоело, сыты по горло! У нас дома тот, кто произнесет за столом слово «Сопротивление», платит штраф. Да здравствуют немцы, мадам, да здравствуют немцы! Пока они были здесь, соблюдалась хоть какая-то видимость порядка, дисциплины. А это, не в обиду вам будь сказано, это французам необходимо, мадам, если мы не хотим завязнуть в революциях, забастовках, национализациях… Крайне левая опасность крайне велика!
Что он, пьян? У него были страшные глаза с расширенными зрачками, по крайней мере ей они казались страшными, остальные слушали его, ничуть не удивляясь… Анна-Мария посмотрела на часы и, сославшись на дела, ушла, не пожав руку этому странному типу.
Она быстро шла к станции метро. Все-таки на улице хорошо — сильный ветер, бескрайнее розовое небо. Воскресенье чувствовалось во всем, но оно уже подходило к концу. Анна-Мария подумала, что слепой в какой-то мере подготовил ее к встрече с матерым фашистом. Хорошо бы отгородиться баррикадой от таких личностей. Анне-Марии уже приходилось сталкиваться с людьми, которые некоторое время где-то отсиживались, а теперь опять вылезли на свет божий, устроились и заговорили во весь голос, но этот человек был первым, выложившим все без обиняков. Не считая мадемуазель Лилетты, ее родной дочери: «Она вполне порядочная женщина, жила с немцем…» Да, Лилетта оказалась в «авангарде», Лилетта не ждала, чтоб ей указали дорогу… Анна-Мария вдруг поняла, насколько она солидарна с теми, кто… С кем? Кто верил, и страдал, и не отступал ни перед чем, чтобы все это не повторилось. Тюрьмы, лагеря, героизм и все лишь для того, чтобы такой вот господин в весеннем костюме… Анна-Мария шла, ничего не видя перед собой. Она попыталась взять себя в руки. Все снова ожило в памяти и в сердце… Женни, Рауль, Лилетта, Франсуа… Победоносная плесень, жертвы и палачи. Всегда одни и те же. Она спустилась в метро. В этот обеденный вечерний час вагоны опустели. Анна-Мария едва не проехала своей остановки, так ее поглотило собственное отчаяние перед всеобщей несправедливостью.
Вернувшись домой, она закрыла ставни, задернула занавески, приняла снотворное и легла. Перед тем как забыться, она успела подумать, что именно так кончают самоубийством: сначала долго обдумывают способ, место, прощальное письмо, последние приготовления, последние наказы… и вдруг кончают с собой как придется: выпрыгнут из окна или застрелятся из старого пистолета с ржавыми пулями… только бы поскорее! Не оставив ни писем, ни наставлений, ни изъявлений последней воли… Только бы скорее покончить со всем… Анна-Мария уснула.
XXII
Как чудесно на юге после дождливого Парижа! Анна-Мария спустилась в туннель, затем поднялась по лестнице вместе с толпой пассажиров, нагруженных чемоданами. У входа толкотня — отбирают билеты. Среди встречающих, на самом солнцепеке стоял Селестен, совершенно черный от загара! Он в штатском — ярко-синяя рубашка без пиджака. Селестен коснулся губами перчатки Анны-Марии: не очень устали? Вот и носильщик; этот чемодан ваш? Я на своей машине… Бюгатти, гоночная, с потертым кузовом. Глядя на его обнаженные загорелые руки, державшие руль, Анна-Мария в своем шерстяном костюме и в чулках чувствовала себя анемичной горожанкой.
— Наверное, я похож на пирата — растерзанный, черный, но здесь такое солнце! Сами увидите…
Машина пересекла привокзальную площадь, и сразу же показались серые камни, замелькали зубцы крепостной стены. Прямо от вокзала начиналась широкая улица, обсаженная платанами.
— Припоминаю, — сказала Анна-Мария, — направо — казарма, немцы ее заняли как раз перед моим приездом…
— Мне это тоже памятно! Нас отсюда выгнали: и этот позор пришлось пережить…
Машины, люди на тротуарах, магазины, кино и невозмутимо синее небо. Гостиница находилась на маленькой площади, возле самых городских ворот; благодаря крепостным стенам, пыли, деревьям и громадному мосту, совсем не городскому мосту, казалось, что вы за чертой города. Гостиница, большая, старинная, находилась в глубине двора с вековыми деревьями. Кто старше — деревья или гостиница? На листке, прикрепленном к двери комнаты, дирекция приносила извинения за непорядки, вызванные бесконечными реквизициями… Большие, тяжелые ставни, не пропускавшие солнечных лучей, скрывали внутренний двор, заваленный ржавыми батареями, трубами, железным ломом, — точно вырванные у дома внутренности. Анна-Мария быстро переоделась в легкое платье: как хорошо!.. Длинными, уходящими куда-то вглубь коридорами, а затем галереей, где на покосившемся полу в неустойчивом равновесии стояла прекрасная старинная мебель — сундуки, лари, комоды, горки, — где стены были увешаны гобеленами и старинными картинами, Анна-Мария дошла до лестницы, ведущей в холл. Шелковые кресла эпохи Директории основательно поистерлись, но все еще имели внушительный вид… Селестен ждал ее в баре, примыкавшем к холлу и обставленном мебелью «модерн», которую время отнюдь не красило. Облокотившись о стойку, Селестен играл в домино с барменом. Кроме них, здесь никого не было. Распахнутые двери выходили во двор, где росло огромное дерево и в лучах солнца столбом вилась мошкара и комары.
— Выпьем что-нибудь? — спросил Селестен. — Как приятно видеть пустой бар. Вместо толпы немцев — одна-единственная дама в шортах.
Непринужденность его была явно наиграна: «Красивое платье…» и быстрый взгляд — словно чистокровный скакун прянул в сторону и застыл на месте.
Они пересекли маленькую площадь и сразу же очутились за опоясывающими город крепостными стенами, которые так естественно сочетаются здесь с домами, кафе, людьми, ожидающими автобус. Вот и Рона, деревья, ровный пейзаж… Ну и жара на мосту! Жара и ветер, раздувающий широкую юбку Анны-Марии. По наспех починенному мосту теперь можно было пройти и проехать… Колеса машин играют на досках временного настила, как на ксилофоне. Внизу — Рона — ее бурные стремительные воды сливаются в единый сплошной поток… Между двумя рукавами Роны — остров, на нем — ночные кабачки; как все это странно!.. «Для американцев, — поясняет Селестен, — и для женщин, которые льнут к ним как мухи!..» Мост тянется над обмелевшим рукавом Роны — вода и песок… Мост длиной в километр… Зной. Анна-Мария и Селестен не держатся за руки, почти не разговаривают. Проезжают велосипедисты, в шортах, в плавках, прикрытые одним лишь загаром.
Шоссе за мостом накалено не меньше, чем мост; дома, деревья, не дающие в этот час тени, машины, сигналящие за спиной… «Впервые в жизни меня тянет в жандармерию», — пошутила Анна-Мария, проходя мимо жандармерии — большого розового здания в глубине тенистого сада… «Осторожно!» — Селестен оттащил ее в сторону; она чуть было не споткнулась о лежащую на боку дохлую черную кошку, гниющую на солнце.
— Вот башня Филиппа Красивого, — сказал Селестен, — посмотрите, как она гармонирует с пейзажем, как она украшает его…
Большая квадратная башня одиноко уходила в синеву… Слева — высокие холмы, несколько маленьких домиков, цепляющихся за крутые склоны. Теперь дорога шла под большими тенистыми деревьями. И вскоре перед ними появился Вильнёв во всем своем кардинальском великолепии: на фоне необычайно чистого, необычайно высокого неба — длинная крепостная стена с большими выпуклыми башнями, ниже — расположенные ярусами дома, а между ними просовывают свои пики кипарисы. Анна-Мария и Селестен вошли в городок.
Старые, светлые, почти прозрачные камни домов, церквей — камни цвета жемчуга… Флаги на мэрии, флаги на небольшой, видимо недавно перестроенной площади; даже платаны казались здесь новыми! Анна-Мария и Селестен шли в гору по узенькой улочке, где не могли бы разъехаться две встречных машины. Каменные домики зажимали путников в тиски столетий… Селестен шел впереди; Анна-Мария спотыкалась на плохо вымощенной дороге, тянувшейся между двумя ручейками сточных вод. Время от времени раздавался шум падающей воды и из водосточной трубы какого-нибудь дома выплескивались помои. Надо всем простиралось небо беспримерной синевы… Они все поднимались. Внезапно справа от них словно разорвалась завеса. Исчезли стены, и они увидели: там, где были серые черепичные крыши, возник Папский дворец, словно белый занавес опустился с неба; он был далеко и вместе с тем близко, совсем рукой подать. Потом дома отступили, исчезли деревья и в синем небе осталась одна лишь высокая зубчатая стена и две цилиндрические башни, надвигавшиеся на Селестена и Анну-Марию светлой громадой… Они вошли под стрельчатые своды между двумя башнями — здесь могла бы пройти целая армия! Ветер бесновался, как цепной пес.