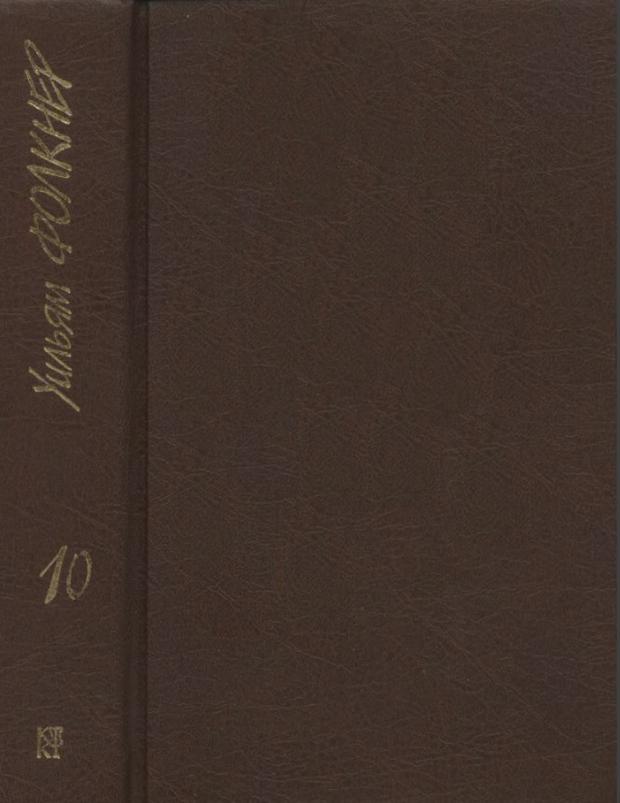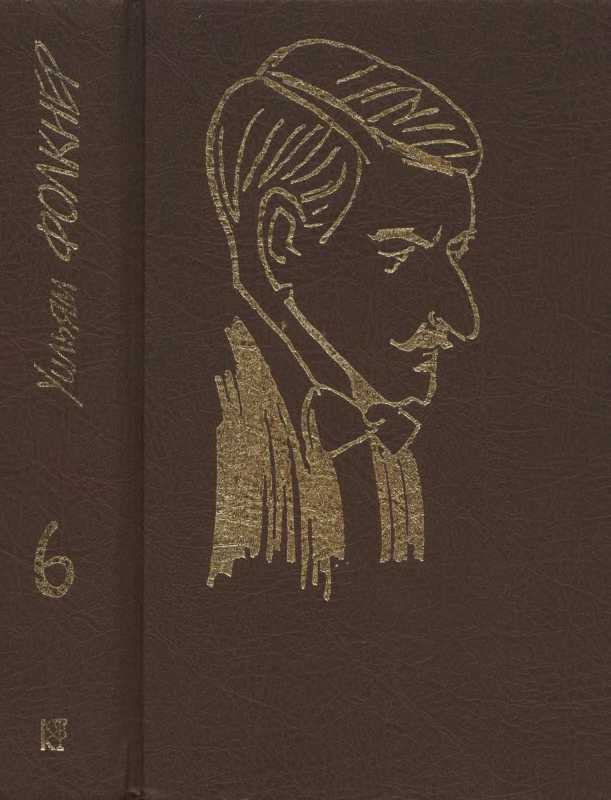открывает его.
— Этот раз, он последний будет, надеюсь? — спросил Хагуд.
— Да, — сказал репортер. — Сегодня вечером они уезжают.
Хагуд достал из бумажника тоненькую чековую книжку.
— Сумму, значит, не хотите сами назвать, — сказал он. — Решили психологически на меня действовать.
— Сколько сможете. Вернее, сколько захотите. Я знаю, что уже занял у вас больше, чем сумею вернуть. Но на этот раз, может быть, я смогу…
Он вынул из кармана пиджака и развернул цветную литографированную открытку. Хагуд прочел надпись: «Отель Виста дель Map, СантаМоника, Калифорния»; на одно из окон указывала стрелка, жирно выведенная гостиничной ручкой.
— Что это? — спросил Хагуд.
— Прочтите, — сказал репортер. — Это от мамы. Они там проводят медовый месяц, она и мистер Хурц. Она пишет, что рассказала ему обо мне, что вроде бы он ко мне благоволит и что, может быть, к первому апреля, когда у меня день рождения…
— А… — сказал Хагуд. — Это будет, конечно, очень мило.
Он достал из кармана рубашки короткую авторучку и огляделся по сторонам; тут впервые заговорил второй персонаж, кентавр из комикса, который до сих пор только ярко и горячо смотрел на Хагуда единственным зрячим глазом.
— Пишите у меня на спине, мистер, если хотите, — сказал он, поворачиваясь и нагибаясь, подставляя Хагуду плечистую и твердую на вид, как бетон, ширь туго натянутой грязной рубашки.
«Лягни давай, лягни меня от души, выбей дурь», — мрачно подумал Хагуд. Он расправил бланк на Джиггсовой спине, выписал чек, помахал, чтобы высохли чернила, сложил и дал репортеру.
— Мне что-нибудь подпи… — начал репортер.
— Нет. Но можно вас кое о чем попросить?
— Да, шеф. Конечно.
— Езжайте в город, возьмите адресную книгу, посмотрите там, где живет доктор Лежандр, и отправляйтесь к нему. По телефону не звоните, отправляйтесь лично, скажите, что я вас к нему направил за таблетками, от которых засыпаешь на двадцать четыре часа; потом идите домой и примите их. Сделаете?
— Да, шеф, — сказал репортер. — Завтра, когда будете готовить вексель, чтобы я подписал, можете подколоть к нему эту открытку. Законом это не предусмотрено, но все же…
— Хорошо, — сказал Хагуд. — А теперь идите. Пожалуйста.
— Мы идем, шеф, — сказал репортер.
Они уехали. Когда добрались до дому, было почти пять часов. Он выгрузили кости, и теперь оба трудились, каждый над своим сапогом, в быстром темпе. Хотя дело подвигалось медленно, сапоги мало-помалу покрывались патиной, более глубокой и менее блестящей, чем от воска или сапожного крема.
— Чудеса, — сказал Джиггс. — Вот если бы не складки на щиколотках и если бы я сохранил коробку и бумагу…
Потому что он запамятовал, что день воскресный. Раньше-то он об этом помнил, и репортер тоже весь день знал, что воскресенье, но теперь оба забыли и не вспоминали до половины шестого, когда Джиггс остановил машину перед витриной, на которую он глядел четыре дня назад и в которой теперь не было ни сапог, ни фотографий. Довольно долго они молча пялились на запертую дверь.
— Зря, выходит, мы спешили, — сказал Джиггс. — Может, конечно, и не получилось бы их надуть. Может, так и так пришлось бы в ломбард… Ну что, машину вернуть бы надо.
— Заедем сперва в газету и получим по чеку наличные, — сказал репортер. Он ни разу еще не взглянул на чек; Джиггс ждал в машине, пока он вернется. — Чек был на сотню, — сказал он. — Надо же, какой человек хороший. Ей-богу, я от него, кроме добра, ничего не видел.
Он сел в машину.
— Теперь куда? — спросил Джиггс.
— Теперь надо решить. А пока решаем, можно вернуть машину.
Уже горели уличные огни; выйдя из гаража, они двинулись в красно-зелено-белом сиянии и мигании, пересекая течения за устьями театральных и ресторанных дверей, перемещаясь поперек мощного вечернего рыбно-кофейного возрождения.
— Тебе нельзя просто взять и ей вручить, — сказал репортер. — Они всё поймут, у тебя ведь в жизни не было столько.
— Да, — сказал Джиггс. — Самое большее могу рискнуть дать эти самые двадцать. Хотя часть из твоих ста я наверняка смогу пристроить в эту двадцатку. Потому что если удастся из пархатого выколотить хотя бы десять долларов, я щипать себя буду, чтобы проснуться.
— А если мы сунем деньги мальцу, это будет… Постой-ка. — Репортер умолк и взглянул на Джиггса. — Все. Придумал. Пошли.
Теперь он почти бежал, протискиваясь сквозь медленную воскресную вечернюю толпу, Джиггс следом. Они перепробовали пять аптек, прежде чем нашли, что искали, — желто-голубую игрушку, висевшую на веревочке перед вращающимся вентилятором, имитируя полет. Игрушка не была предназначена для продажи; чтобы ее снять, Джиггс с репортером притащили из заднего помещения стремянку.
— Ты говорил, поезд в восемь, — сказал репортер. — Поторопиться бы.
Когда они свернули с Гранльё-стрит, было полседьмого; дойдя до угла, где Шуман с Джиггсом позапрошлым вечером купили сандвич, они расстались.
— Уже отсюда вижу шары [30], — сказал Джиггс. — Тебе со мной идти незачем; что мне за них дадут, я и один донесу, не упарюсь. Возьми на мою долю сандвич, дверь оставь, не запирай.
Он двинулся дальше, неся под мышкой завернутые в газету сапоги; при каждом шаге он попеременно откидывал назад то одну, то другую ступню, как лошадь откидывает надкопытную часть ноги, и репортеру показалось, что он даже сейчас ухватывает взглядом посреди каждой из бледных подошв кружок потемневшей человеческой кожи размером с монету; так что после того, как он вошел в прихожую, притворил, не захлопывая, дверь, поднялся по лестнице и зажег свет, он не стал сразу разворачивать сандвичи. Положив их и самолетик на стол, он прошел за занавес. Вернулся он с галлоновой бутылью в одной руке (жидкости в ней теперь было пинты три — меньше половины) и с парой ботинок, выглядевших настолько же родными ему, как его волосы или ладони. Потом он сидел на раскладушке и курил, поджидая Джиггса, который вошел, неся теперь изрядной величины сверток, более объемистый, чем сапоги, хотя и меньшей длины.
— Пять долларов мне за них дал, — сказал Джиггс. — Я заплатил двадцать два пятьдесят, два разочка их поносил, а он мне отваливает целую пятерку. М-да. Бросается человек деньгами. — Он положил сверток на койку. — Поэтому я решил — ну чего я ей буду такую мелочь давать. И купил просто каждому по подарку.
Он развернул подарочную бумагу. Внутри оказались коробка конфет — точнее, тючок размером с небольшой чемодан, своего рода миниатюрная стилизованная кипа хлопка с выжженной неким способом увесистой надписью: «В память о Нью-Валуа. Ждем вас опять в гости», — и три журнала: «Бойз лайф», «Ледис хоум джорнал» [31] и один дешевый из тех, где