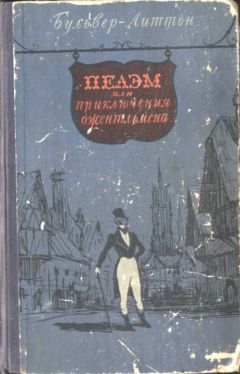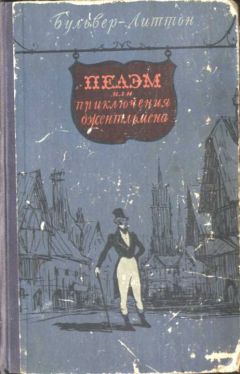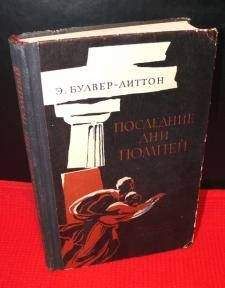Моряк, дремавший на палубе, услышал легкий всплеск. Он сонно поднял голову, поглядел за корму, и ему почудилось в волнах что-то белое, но в тот же миг все исчезло. Он отвернулся и стал думать о своем доме и детях.
Когда Главк и Иона проснулись, первая их мысль была друг о друге, а вторая – о Нидии. Но ее нигде не было, и никто не видел ее в то утро. Они обшарили все судно и не нашли никаких следов. Слепая девушка исчезла навсегда. Все молча раздумывали о ее судьбе. И Главк с Ионой, прижавшись друг к другу (ведь они были друг для друга дороже всего на свете) и забыв о себе; оплакивали ее, как сестру.
Последняя глава, которой все кончается. Письмо от Глазка Саллюстию через десять лет после разрушения Помпей
Афины
Главк шлет своему другу Саллюстию привет и пожелания здоровья!
Ты зовешь меня в Рим – нет, Саллюстий, лучше ты приезжай сюда, в Афины. Я отказался от столицы империи, от ее шума и суетных радостей. До конца своих дней я буду жить на родине. Призрак нашего былого величия мне дороже, чем вся ваша роскошь и веселье. Для меня есть неповторимая прелесть в портиках, освященных памятью славных и почитаемых людей. В оливковых рощах на берегах Илисса я еще слышу голос поэзии, а сумрачные облака над Филой кажутся мне саваном погибшей свободы и вестником – да, вестником – грядущего! Ты улыбаешься моим восторгам, Саллюстий! Но лучше сохранять надежду на свободу, чем радоваться блеску цепей. Ты пишешь, что, на твой взгляд, нельзя наслаждаться жизнью на руинах падшего величия. Ты с восторгом говоришь о блеске Рима, о роскоши императорского двора. Милый Саллюстий, я уже не тот, что прежде. Жизнь охладила мою кровь. Мое здоровье, подорванное тяжкой болезнью и заточением в сырой темнице, все еще не восстановилось. Я не могу забыть мрак последнего дня Помпей, ужас, отчаяние и нашу любимую, незабвенную Нидию! Я воздвиг гробницу ее тени и смотрю на нее из окна. Она будит во мне нежные воспоминания и радостную грусть, и я отдаю заслуженную дань верности и безвременной смерти бедной слепой девушки. Иона собирает цветы, и я каждый день украшаю ими гробницу. Она достойна гробницы в Афинах…
Иона – сердце мое бьется сильнее при этом имени – сидит сейчас рядом со мной. Я поднимаю глаза, и она мне улыбается. Солнце освещает склоны Гиметта, в саду гудят пчелы. Ты спрашиваешь, счастлив ли я. Что может дать мне Рим по сравнению с тем, что есть у меня в Афинах? Здесь все пробуждает душу и рождает любовь. Деревья, вода, горы, небо – все здесь афинское! Этот город прекрасен, хоть и печален, он – мать поэзии и мудрости мира. У меня в атрии стоят мраморные статуи моих предков. В Керамике[188] я вижу их могилы. На улицах перед моими глазами труды рук Федия и гения Перикла. Гармодий, Аристогитон бессмертны в наших сердцах или, по крайней мере, в моем. Только одно может заставить меня забыть, что я, афинянин, не свободен, – это нежная, живая, неугасимая любовь Ионы, любовь, которую ни один из наших поэтов, как ни прекрасны их стихи, не сумел по-настоящему воспеть… Такова, Саллюстий, моя жизнь. Я радуюсь ей и коротаю свой век. Ну, а ты, веселый и добрый последователь Эпикура? Приезжай сюда, и ты увидишь, как мы наслаждаемся, какими надеждами живем, и ни блеск придворных пиров, ни шумный, переполненный цирк, ни людный форум, ни сверкающий театр, ни великолепные сады, ни роскошные термы Рима уже не дадут тебе живительного и безмятежного счастья, составляющего участь афинянина Главка, о которой ты так напрасно сожалеешь. Прощай!
Почти семнадцать столетий пролежали под пеплом Помпеи, прежде чем были извлечены из своей немой могилы; их стены словно только вчера выкрашены, красивые мозаичные полы ничуть не поблекли, на форуме еще стоят недостроенные колонны, так, как их оставили мастера, в садах сохранились жертвенные треножники, в залах – сундуки для драгоценностей, в банях – щетки, в театрах – хитроумные устройства при входе, в атриях – мебель и светильники, в триклиниях – остатки последнего пира, в спальнях – благовония и румяна давно истлевших красавиц, и всюду – кости и скелеты людей, когда-то приводивших в движение этот небольшой, но блестящий механизм роскоши и самой жизни.
В глубоких подвалах дома Диомеда возле двери были найдены двадцать скелетов, в том числе один детский, засыпанный мелким пеплом, который ветер, видимо, постепенно заносил сквозь щели, пока не завалил все подземелье. Там же оказались драгоценности, монеты, светильники, вино, которое могло лишь продлить предсмертные муки и засохло в амфорах. Мокрый пепел, затвердев, принял форму человеческих фигур; до сих пор можно увидеть отпечаток женской шеи и юной округлой груди – это все, что осталось от красавицы Юлии. Вероятно, воздух постепенно отравляли сернистые испарения; все бросились к двери подвала, но она была завалена снаружи пеплом, и, не в силах открыть ее, люди задохнулись.
В саду нашли скелет, костлявая рука которого сжимала ключ, а рядом – сумку с монетами. Предполагают, что это хозяин дома, злополучный Диомед, который, возможно, пытался спастись через сад и либо задохнулся, либо был убит осколком камня. Тут же лежали серебряные сосуды и другой скелет, вероятно, раба.
Дома Саллюстия и Пансы, так же как и храм Исиды с его статуями, в которых спрятаны хитроумные приспособления для вещания священных оракулов, теперь открыты любознательному взгляду. В одной из пристроек нашли огромный скелет, а рядом с ним – топор; две стены были прорублены, но выбраться наружу жертве так и не удалось. Посреди города нашли другой скелет, а рядом с ним – кучу монет и множество священных украшений из храма Исиды. Смерть настигла жадного вора, и Кален умер одновременно с Бурдоном. Когда были расчищены горы обломков, на одной из улиц нашли скелет человека, буквально расколотый надвое упавшей статуей; череп его имел удивительную форму и был отмечен печатью злобного и гибкого ума. Прошло много столетий, но и теперь еще можно видеть просторный дом, в причудливых галереях и великолепных покоях которого когда-то жил, мечтал и творил зло египтянин Арбак.
Глядя на все эти реликвии общественного строя, который навеки исчез с лица земли, пришелец с того далекого варварского острова, при имени которого римляне содрогались, здесь, среди красот дивной Кампании, написал эту книгу.
Пелэм, или Приключения джентльмена
Я думаю, если любого писателя спросить, что в его литературной деятельности приносит ему самые крупные огорчения, мы услышим больше всего жалоб не на недостаток одобрительных отзывов о нем, а на непонимание его подлинных намерений. Быть может, все мы пишем с некоей тайной целью, до которой публике никакого дела нет. И если каждый читатель ищет в любой книге родственные себе моральные принципы, то ни один из них даже случайно не уловит того, что автор в глубине души стремился ему внушить. Личный опыт в этом отношении и заставляет меня предпослать настоящему изданию «Пелэма» то предуведомление, которое я для первого полагал излишним.
К счастью, мир наш устроен таким образом, что в нем все находит себе применение. Любая былинка на больших дорогах жизни таит в себе нектар, который легко может извлечь Наблюдательность художника, и даже у самого Безумия можем мы почерпнуть немало мудрости, если, занимаясь исследованием, будем отделять одно от другого и, воспринимая вещи, оценивать их с сатирической точки зрения. Убежденность в этом и породила данную книгу. Я не допускал мысли, что даже самые обычные явления и черты жизни нашего света не достойны изображения и не предоставляют возможности извлечь из них некую мораль. Вот почему материалом для этого романа и послужили обычные явления и черты в жизни общества. Если о несущественных вещах говорить естественно, их можно сделать забавными, а то, чему верность природе придает забавность, она же может сделать поучительным. Ибо Природа есть источник всяческой морали, волшебный родник, не содержащий в себе ни одной капли, которая не обладала бы силой излечить хоть какой-нибудь из наших недугов.
Предисловие ко второму изданию «Пелэма»
Героем своего произведения избрал я такого человека, который, на мой взгляд, лучше всего выражал мнения и обычаи своего класса и своего времени, являясь своеобразным сочетанием противоречивых черт: фат и философ, любитель наслаждений и моралист, человек, погруженный в мелочи жизни, но притом скорее склонный извлекать из них поучительные уроки, нежели считать их только естественными, нечто вроде Аристиппа[189] в ограниченном масштабе, привыкшего делать мудрые заключения из безумств, к которым он привержен, и объявляющего себя жрецом Наслаждения, тогда как на самом деле он лишь ученик Мудрости. Подобный характер оказалось гораздо труднее изобразить, нежели замыслить. И тем более трудно, что у меня лично нет с ним ничего общего[190], кроме склонности к наблюдению и некоторого опыта жизни в той обстановке, в которой он изображен. А ведь само собой разумеется, что даже наиболее знакомые тебе обстоятельства трудно наблюдать с некоей точки зрения, в самом существе своем и постоянно отличной от той, с которой ты сам привык на них смотреть. Вследствие этой трудности, может быть, покажется извинительной моя неудача, да, пожалуй, автор, который редко пользовался самовлюбленностью своего героя для того, чтобы найти выход своей собственной самовлюбленности, заслуживает и дополнительного снисхождения.