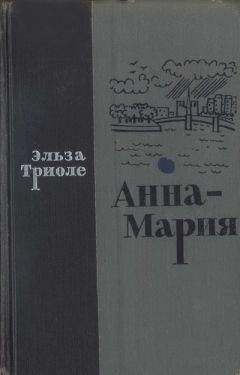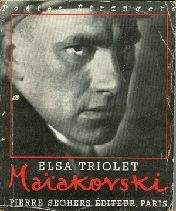— Признаться, меня беспокоит отсутствие водопровода, — сказал Селестен… — Мы постарались все же устроить вас как можно удобнее, туалетная комната вот здесь, в одном из этих странных закоулков, гардеробная там, увидите, она вся в стенных шкафах с красивой резьбой на дверцах. Открою вам тайну: в одном из стенных шкафов есть небольшая дверь, выходящая на отвесную лестницу. Вы не сможете ею пользоваться, да вам она и ни к чему, так как ведет в подземелье. Подземелья начинаются под башней, — должно быть, некогда они служили складами. Один из выходов — метрах в пятидесяти от дома, в самой гарриге… Предусмотрительные были у меня предки! Но я болтаю, болтаю, а вы, вероятно, проголодались!
— Проголодалась, но мне не хочется уходить от окна!..
— Сегодня вечером прикажу подать ужин к вам в комнату. Горячего сюда, конечно, не донести, но если вы удовольствуетесь холодными блюдами… а сейчас мы, с вашего разрешения, позавтракаем на воздухе.
Они спустились во двор. В углу, образованном крепостной стеной, росли два исполинских платана. Под этими платанами и был накрыт стол. Очень старая женщина, высокого роста, с пергаментно-желтым лицом, вышла из низкого одноэтажного здания, неся перед собой поднос. Селестен пошел старухе навстречу, взял у нее из рук поднос, поставил на стол, поцеловал ее.
— Здравствуй, Марта, а где девочка? Почему подаешь ты?
— Девочка уехала на праздник в В. Все это время мадам очень беспокоилась: ты долго не приезжал…
Марта расставляла на столе закуски, не поздоровавшись с Анной-Марией, не глядя в ее сторону.
— Если хотите помыть руки, пойдемте на кухню…
Анна-Мария последовала за Селестеном. Кухня была вровень с землей; она так прокоптилась, что пламя очага казалось неестественно ярким… Вокруг стола сидело трое мужчин: те двое, которых Анна-Мария уже видела во дворе, и еще какой-то блондин с обветренным лицом. Мужчины встали, вытянув руки по швам.
— Это пленный, он работает у нас в поле. Смирный… — сказал Селестен. Как говорят: «Он не кусается»…
На вертеле, в очаге, жарились три курицы. Марта что-то помешивала в черном, подвешенном над огнем котле, из котла валил белый пар. Настоящая колдунья… Селестен лил воду над оловянным тазом на руки Анне-Марии.
— Вас не пугает такая жизнь?
Нет, не пугает. Никогда еще Селестен не видел ее такой веселой; в сущности, до этого дня он вообще не видел ее веселой. Он пожалел, что не знал ее, когда ей было двадцать лет… Нет, такая жизнь не пугала Анну-Марию, здесь было столько воздуху, что можно было прополоскать в нем и голову и сердце, здесь была гаррига… Эта жизнь не пугала ее, несмотря на присутствие Селестена, трех молчаливых мужчин, старухи с пергаментным лицом и больной, спрятанной где-то в доме-крепости… Анну-Марию охватило чувство беспричинного ликования — ах, как бы ей хотелось уйти в гарригу и переночевать там под открытым небом, одной, без дум, без воспоминаний, без мыслей о завтрашнем дне…
После завтрака Анна-Мария чудесно проспала целый час на кроваво-красной кровати. Селестен ждал ее в большой зале, он был в шортах, с ножом у пояса. Они вышли и долго-долго гуляли. Приходилось то взбираться вверх, то спускаться. Низкие серые стены окаймляли несуществующие дороги; кустарник, низенькие пробковые дубы, изредка большие деревья, росшие в одиночку и группами, и повсюду — лаванда… Чем дальше шла Анна-Мария, тем меньше она чувствовала усталость: воздух нес ее словно на крыльях. Было здесь много миндальных деревьев, ветви гнулись под тяжестью миндаля, он падал на землю. За одним из пригорков показались стены фермы, сложенные все из того же жемчужно-серого камня. Поле, обсаженное фруктовыми деревьями… Селестен нарвал слив, больших, желтых, сладких. «Мне можно, меня здесь знают». Возле дома, не сходя с места, залаяла собака и замолчала, как только они подошли ближе. Какая-то женщина юркнула в дом: «Такой уж у них нрав в здешних местах…»
Долго еще Анна-Мария и Селестен бродили по гарриге, а вокруг пахло лавандой, и до самого горизонта расстилалась эта бескрайняя земля.
— Сейчас мы подойдем к ферме, где располагалось первое организованное мною маки… Смотрите, вот здесь было наше стрельбище…
Желтая песчаная площадка на склоне холма пряталась за густой зарослью кустарника. Анна-Мария и Селестен поднимались, карабкаясь по навалам камней, приминая траву. Заброшенная ферма стояла в гуще деревьев, так удачно маскировавших ее, что отсюда она была почти не видна. Чтобы подойти к дому, надо было продраться сквозь густой терновник. Селестен прокладывал путь, наступая на колючие ветки, придерживая их, и все же Анна-Мария в кровь исцарапала ноги, а косынку, которой она повязалась, на каждом шагу срывало с головы. Они добрались до двери с большой, выведенной неумелой рукой надписью: «МАКИ». Такая же надпись была на стене в первой комнате. Маленький серый зверек — не то крыса, не то белка, а скорее всего выдра, — испуганно пробежал вдоль потолочной балки и исчез в стене. В сущности, потолка уже не было; под дырявой крышей осталась одна балка. Во второй комнате, поменьше, в очаге еще лежала кучка золы, а потолок был так закопчен, будто костер здесь разводили прямо посреди комнаты. «Вполне возможно, — заметил Селестен, — мы здесь очень мерзли». На полу валялась солома, дырявая кастрюля, скамейка, сколоченная из ящиков. Селестен взял Анну-Марию за плечи: «Здесь мы по-настоящему одни, — сказал он, — Адам и Ева… До нас никто не ведал греха…»
Когда они вышли из дому, продравшись сквозь терновник, как сквозь колючую проволоку, солнце ослепило их — так бывает, когда среди бела дня выходишь из кино. По другую сторону дома — лужайка, миндальные деревья, колодец… Они присели в тени, на край колодца; Селестен собирал миндаль, колол его камнем; ядра были белые, сладкие…
— Как мы все же были наивны поначалу… — говорил Селестен. — Ведь только сумасшедшему могло прийти в голову такое: устроить лагерь в нескольких километрах от собственного дома… Бог милостив к безумцам. Каждому свое, кого выручает чутье, кому просто везет… Эти страшные годы непрерывных скачек с препятствиями были проверкой характера, способности жертвовать собой… Как только было заключено перемирие, мы спрятали оружие, и я тут же принялся сколачивать группу. Чистая кустарщина, к тому же, признаюсь, я не очень хорошо представлял себе, к чему это приведет… Мне никогда и в голову не приходило бежать в Лондон; англичан я всегда терпеть не мог. Они с нами немало злых шуток сыграли… Потом в Лионе я столкнулся с доктором Арнольдом — во время войны он был у нас полковым врачом. Глубоко штатский человек, и военная форма тут ничего не меняла: он все равно оставался штатским, что не мешало ему быть безрассудно храбрым… Арнольд свел меня с одним человеком — с неким Домиником… И, видит бог, внешность его к доверию не располагала… Я так и не узнал, чем он занимался в мирное время. Доминик попросил меня найти ему место для установки радиопередатчика. Это был необыкновенный человек. Кентавр с велосипедным колесом вместо лошадиного крупа… Когда боши его сцапали, у нас вся работа развалилась… Пришлось мне бежать в Лондон: они напали на мой след… и я оказался в БСРА. Думал ли я когда-нибудь, что окажусь на секретной работе.
Анна-Мария слушала, сидя на краю колодца, слегка наклонив голову, сложив руки на коленях… Селестен украдкой посматривал на нее: пейзаж словно создан, чтобы служить ей фоном — миндальное дерево, колодец, высокое небо. Для полноты картины недоставало только младенца на ее коленях…
Они пошли обратно. На дороге все тот же парень в резиновых сапогах с отворотами нагружал тележку хворостом. «Ну, ну!» — кричал он, урезонивая лошадь, которой наскучило стоять на месте.
Внутри зубчатой стены, в открытую дверь хлева, было видно, как Марта, присев на корточки, доила корову. Пленный убирал сено.
— Можно осмотреть башню? — спросила Анна-Мария. — Вы говорили, под ней подземелье?
— В другой раз, если не возражаете… мне надо отдать кое-какие распоряжения… Я сейчас же вернусь к вам… Стол будет накрыт в вашей комнате, как вы хотели…
Теперь, когда догоравшее солнце светило как бы отраженным светом, гаррига за полукруглым, широким, словно арка, окном вырисовывалась четко и ясно. Против окна — ферма, поля, окаймленные деревьями, с которых Селестен нарвал слив… Далеко-далеко слева, где чуть виднелась группа деревьев, должно быть, ферма маки, гаррига меняла свой облик, она не походила больше на океан с застывшими волнами земли и пеной кустарника.
Стол уже был накрыт в нише, обрамленной красными бархатными портьерами с золотой бахромой. Точно маленькая театральная сцена, где огни рампы заменял свет, шедший от гарриги. Комната тонула в сером предвечернем полумраке. Постель была приготовлена, и Анна-Мария прилегла. Давно, давно не была она так блаженно, так бездумно счастлива.