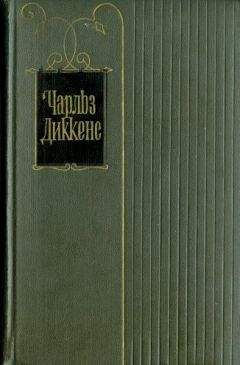— В таком случае, твою проповедь можно считать законченной, потому что я верю тебе.
— Нет, постой, Джон. — Белла замолчала, видимо не решаясь продолжить. — Это было только, «во-первых». А потом будет страшное «во-вторых», и страшное «в-третьих», как я пугала себя, когда была малюсенькой грешницей и слушала церковные проповеди.
— Меня ничем не испугаешь, любовь моя.
— Джон, милый, а ты можешь поручиться… Можешь сказать от всего сердца…
— …которое не в моей власти, — вставил Джон.
— Нет, Джон, ключ от него у тебя. Так вот, ты ручаешься, что в глубине, в самой глубине твоего сердца, которое ты отдал мне, так же как я отдала тебе свое… не осталось воспоминания о моем прежнем корыстолюбии?
— Если б у меня в памяти не осталось никаких следов о том времени, — прошептал он, коснувшись губами ее губ, — разве я мог бы так любить тебя? Разве в календаре моей жизни появился бы красный листок? И, глядя на твое милое личико, слушая твой милый голосок, разве я помнил бы свою отважную защитницу? Неужели тот мой вопрос, любимая, настроил тебя на серьезный лад?
— Нет, Джон, виной этому не твой вопрос и не мои мысли о миссис Боффин, хотя я очень люблю ее. Дай мне поплакать, Джон. Плакать от счастья так приятно, так сладко!
И она заплакала, прижавшись к нему, а потом, не отрывая лица от его груди, негромко рассмеялась и прошептала:
— Теперь, Джон, я могу сказать тебе, что следует «в-третьих».
— Слушаю. Что бы там ни последовало.
— Я думаю, Джон, — продолжала Белла, — что ты думаешь, что я думаю…
— Стой, стой, дитя мое! — весело воскликнул он.
— Да, правда! — все еще смеясь, сказала Белла. — Это похоже на грамматическое упражнение. Но без него, пожалуй, не обойдешься. Хорошо, попробую еще раз. Я думаю, Джон, что ты думаешь, что я думаю, что денег у нас вполне достаточно и что мы ни в чем не нуждаемся.
— Это святая истина, Белла.
— Но если наши доходы вдруг уменьшатся и нам придется немного ограничивать себя, ты не перестанешь верить, что я всем довольна?
— Не перестану, душа моя.
— Спасибо, Джон, большое, большое тебе спасибо! И я могу быть уверена, что ты… — она запнулась. — …что ты тоже будешь всем доволен, Джон? Но как же иначе! Если я за себя ручаюсь, то за тебя и подавно можно поручиться, потому что ты сильнее, мужественнее, рассудительнее и великодушнее меня!
— Довольно! — сказал ее муж. — Слышать этого не желаю, хотя во всем остальном ты права. А теперь, моя дорогая, позволь мне поделиться с тобой одной новостью, которую я собираюсь рассказать тебе весь вечер. Знаешь, у меня есть все основания полагать, что наши доходы не станут меньше, чем они есть.
Казалось бы, такая новость должна была заинтересовать ее, а она снова занялась обследованием пуговицы на сюртуке мужа, точно не расслышав его слов.
— Наконец-то мы добрались до сути дела! — воскликнул Джон, стараясь подбодрить жену. — Признавайся, что настроило тебя на серьезный лад — то, что было, «во-первых», «во-вторых» и «в-третьих»?
— Нет, милый, — ответила она, все крутя пуговицу и покачивая головой, — совсем не это.
— Господи! Смилуйся над моей женой! У нее еще есть про запас «в-четвертых»! — воскликнул Джон.
— Меня немножко тревожило то, что было, «во-первых», и то, что было, «во-вторых», — сказала Белла, не оставляя пуговицы в покое. — Но причина моей серьезности глубже, сокровеннее, Джон…
И когда он наклонился к ней, она подняла голову, прикрыла ему глаза правой рукой и не отняла ее.
— Помнишь, Джон, как папа говорил в день нашей свадьбы о кораблях, что могут приплыть к нам из неведомой морской дали?
— Как же мне этого не помнить, дорогая?
— К нашим берегам… плывет по океану корабль… и он привезет нам с тобой… ребенка, Джон.
К вечеру, когда работа на бумажной фабрике кончилась, все тропинки и дороги по соседству с ней запестрели людьми, возвращающимися домой после трудового дня. Мужчины, женщины, дети шли группами по нескольку человек, и легкий ветерок, игравший их одеждой, не мог пожаловаться на нехватку здесь цветных платьев и ярких шарфов. Веселые голоса и смех, раздававшиеся в вечернем воздухе, ласкали слух не менее приятно, чем яркие краски людской одежды ласкали зрение. На переднем плане этой живой картины ребятишки бросали камни в неподвижную речную гладь, отражающую закатное небо, и следили, как по ней разбегаются зыбкие круги. И такими же кругами ширилась даль в розовом свете вечерней зари, — вон дороги, по которым рабочие возвращаются домой, а там серебристая река, за рекой темная зелень хлебов, таких густых и высоких, что люди в полях будто плывут по волнам; еще дальше — придорожная живая изгородь и деревья, за ними ветряные мельницы на холмах, а на горизонте — небо сливается с землей, словно перестала существовать бесконечность пространства, отделяющая человека от небесной выси.
Был субботний вечер, а субботними вечерами сельским собакам, которые всегда выказывают гораздо больше интереса к людским делам, чем к своим собственным, особенно не сидится на месте. Они сновали и у пивной, и у мелочной лавочки, и у мясной, проявляя совершенно ненасытную любознательность. Особенный интерес, проявляемый ими к пивной, где на съестное рассчитывать не приходилось, свидетельствовал об испорченности, подспудно таящейся в собачьей натуре, а поскольку собакам несвойственно находить вкус в пиве и табаке (прямых доказательств, что пес миссис Хабберд* действительно любил побаловаться трубкой, не имеется), следовательно влекли их туда просто пристрастие к обществу забулдыг. Мало того, в пивной пиликала скрипка, такая мерзкая скрипка, что один поджарый, голенастый щенок, наделенный лучшим слухом, чем его собратья, то и дело забегал за угол и негромко подвывал там. Тем не менее после каждой такой отлучки он возвращался к пивной с упорством закоренелого пьяницы.
Страшно сказать, но в этой деревушке было даже нечто вроде ярмарки! Десяток-другой злосчастных имбирных пряников, которые тщетно старались избавить от себя продавца в разных местах нашей страны и уже посыпали свою скорбную главу изрядным количеством пыли вместо пепла, взывали к покупателям из-под шаткого навеса. Так же вели себя и орехи, которые отправились в изгнание из Барселоны в незапамятные времена, но по сей день так плохо изъяснялись по-английски, что утверждали, будто четырнадцати штук вполне достаточно, чтобы именоваться фунтом. Любителей картинок на исторические темы привлекал раек, начавший свою деятельность показом битвы под Ватерлоо и с той поры подменявший ею все сражения последующих лет, для чего требовалось только переделать нос герцогу Веллингтону. В нескольких шагах от райка красовался огромный портрет великанши в платье необъятной ширины и с большим декольте — в том самом, в каком она представлялась ко двору, а рядом — сама великанша, которую, вероятно, питали главным образом надеждой на то, что когда-нибудь ей удастся полакомиться свиными отбивными, так как ее товаркой по ремеслу была ученая свинья. Все это являло собой возмутительное зрелище, и подобные зрелища были, есть и будут возмутительными, потому что они отвечают потребностям грубых дровосеков и водовозов — жителей нашей Англии. Нечего им отвлекаться от своего ревматизма такими забавами! Пусть разнообразят его лихорадкой и тифом или вариациями ревматических болей по количеству имеющихся у них суставов — чем угодно, только не забавами на свой вкус и лад!
Разноголосица, рождающаяся в этом злачном месте и уносимая ветром вдаль, еще больше подчеркивала спокойствие летнего вечера там, куда она долетала, смягченная расстоянием. Так по крайней мере казалось Юджину Рэйберну, который ходил по берегу реки, заложив руки за спину.
Он ходил медленно, размеренными шагами, и выражение лица у него было сосредоточенное, как у человека, который чего-то ждет. Он ходил взад и вперед между двумя вехами — ивой на одном конце и водяными лилиями на другом, и у каждой из этих вех останавливался и пристально смотрел все в одном и том же направлении.
— Как здесь тихо, — сказал он.
Да, здесь было тихо. У реки паслись овцы, и Юджин подумал, что ему никогда не приходилось замечать, как они хрупают, пощипывая траву. Он замедлил шаги и от нечего делать стал смотреть на них.
— Вы, наверно, безмозглые животные. Но если вам удается проводить дни своей жизни более или менее сносно, по вашему разумению, то мне не мешало бы призанять у вас ума, хотя я человек, а вы всего-навсего баранина.
Шорох на лугу, позади живой изгороди, привлек к себе его внимание.
— Это же что такое? — сказал он и, не спеша подойдя к калитке, посмотрел поверх нее. — Может, какой-нибудь ревнивец с бумажной фабрики? Охотникам в здешних местах делать нечего. Тут больше рыбку ловят.