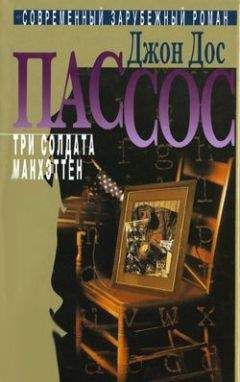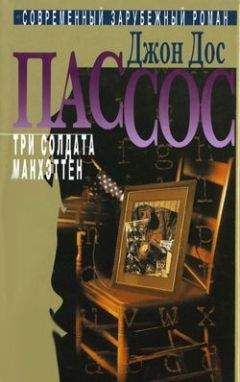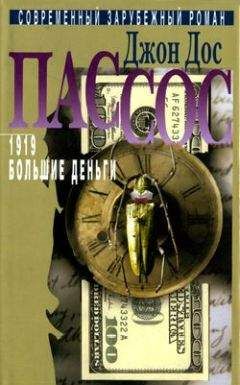– Да, очень старый и дребезжащий.
– Мне интересно было бы сыграть вам все, что я написал из «Царицы Савской», – вы всегда даете мне такие полезные указания.
– Потому что это меня интересует. Я думаю, что вы создадите со временем что-нибудь очень крупное.
Эндрюс пожал плечами.
Они сидели молча; в ушах его гудел прерывистый ритм колес по рельсам; они иногда украдкой взглядывали друг на друга. За окном поля и изгороди, пятна цветущих растений и тополя в легкой зеленой пудре развертывались перед ними, как лента, за мельканием телеграфных столбов и зигзагообразной проволоки, на которую солнце бросало искры красной меди. Эндрюс вдруг заметил, что медный блеск на телеграфной проволоке такой же, как искры в волосах Женевьевы.
Берениса, Артемизия, Арсиноя… Эти имена застряли у него в памяти. И, смотря из окна на длинные извивы телеграфной проволоки, которая будто поднималась и опускалась, когда они скользили мимо, он мог представить себе ее лицо, с большими светло-карими глазами, маленьким ртом и широким гладким лбом, застывшее в виде живописи восковыми красками на саркофаге какой-нибудь александрийской девушки.
– Скажите мне, – спросила она, – когда вы начали писать музыку?
Эндрюс откинул светлые беспорядочные пряди волос, упавшие на его лоб.
– Никак я забыл пригладить волосы сегодня утром, – сказал он. – Вы видите, как я был взволнован мыслью поехать с вами в Шартр?
Они засмеялись.
– Моя мать учила меня играть на рояле, когда я был совсем маленьким, – продолжал он серьезным тоном. – Мы с ней жили одни в старом доме, принадлежавшем ее семье, в Вирджинии. Как это непохоже было на все, что мы когда-либо переживали! В Европе невозможно жить так уединенно, как мы жили в Виргинии. Моя мать была очень несчастна… У нее была ужасно неудачная жизнь. Такое безутешное, безнадежное страдание выпадает только на женскую долю. Она рассказывала мне сказки, а я сочинял на них маленькие мелодии, и на всякие другие темы также. Самый большой успех, – он засмеялся, – пришелся на долю одуванчика… Я очень хорошо помню, как мама оттопыривала губы, когда наклонялась над письменным столом. Она была очень высокого роста, а в нашей старой гостиной было очень темно, и ей приходилось сильно наклоняться, чтобы видеть. Она проводила часы, красиво переписывая мои мелодии. Моя мать – единственный человек, когда-либо действительно имевший значение в моей жизни. Но мне страшно недостает технической подготовки.
– Вы думаете, что это так важно? – спросила Женевьева, наклоняясь к нему, чтобы он мог расслышать ее, несмотря на грохот поезда.
– Может быть, и нет. Я не знаю.
– Я думаю, это всегда придет рано или поздно, если вы достаточно интенсивно чувствуете.
– Но так мучительно чувствовать, что все, что вы хотите выразить, ускользает от вас! Вам приходит в голову мысль, вы чувствуете, как она крепнет и крепнет, и не можете схватить ее – у вас нет средств для ее выражения. Вы как будто стоите на углу улицы и видите пышную процессию, не имея возможности присоединиться к ней; или же вы откупориваете бутылку пива, она обрызгивает вас всего пеной, но у вас нет стакана, куда налить пиво.
Женевьева расхохоталась.
– Но вы можете пить из бутылки, разве нет? – сказала она, сверкая глазами.
– Я и то пытаюсь, – сказал Эндрюс.
– Мы доехали! Вот собор. Нет, он спрятался! – воскликнула Женевьева.
Они встали. Когда выходили из вагона, Эндрюс сказал:
– Но, в конце концов, все дело в свободе. Только бы мне выйти из армии!
– Да, вы правы в том, что касается лично вас, разумеется. Художник должен быть свободен от всяких пут.
– Не вижу, какая разница между художником и всяким другим рабочим! – сказал Эндрюс свирепым тоном.
– Нет, посмотрите!
Из сквера, где они стояли, они могли видеть над зеленым пятном небольшого парка собор, желтоватого и ржавого тона, со строгой и нарядной башнями и большим розовым окном между ними; вся громада стояла небрежно, по колено в скученных крышах города.
Они стояли плечом к плечу, молча смотря на него.
Перед вечером они спустились по холму к реке, окруженной покосившимися домами с остроконечными крышами и мельницами, из которых доносился шум жерновов. Над ними, возглавляя сады, наполненные цветущими грушами, купол собора выступал на бледном небе. Они остановились на узком старинном мосту и смотрели на воду, наполненную голубыми, зелеными и серыми отсветами неба и ярких новых листьев ив, растущих вдоль берега.
С чувствами, пресыщенными красотой дня и сложным великолепием собора, разнеженные всем виденным и сказанным, они тихими голосами говорили о будущем.
– Все дело в том, чтобы создать себе привычку работать, – говорил Эндрюс. – Надо стать рабом, чтобы что-нибудь сделать; весь вопрос в выборе своего господина. Вы не думаете, что это так?
– Да, я полагаю, что все люди, оставившие след в жизни человечества, были рабами в известном смысле этого слова, – медленно сказала Женевьева. – Каждый должен отдать большую часть жизни, чтобы глубоко пережить что-либо. Но это стоит того. – Она посмотрела Эндрюсу прямо в глаза.
– Да, я думаю, что стоит, – сказал Эндрюс. – Но вы должны мне помочь. Теперь я похож на человека, который вышел из темного погреба. Меня слишком сильно ослепляет великолепие всего окружающего. Но по крайней мере я вышел из погреба.
– Посмотрите, проскочила рыба! – воскликнула Женевьева.
– Я хотел бы знать, можно ли здесь где-нибудь взять напрокат лодку? Правда, весело было бы покататься на лодке?
Чей-то голос прервал ответ Женевьевы:
– Покажите мне ваш паспорт, пожалуйста!
Эндрюс обернулся. Солдат с круглым коричневым лицом и красными щеками стоял около него на мосту. Эндрюс пристально посмотрел на него. Маленький шрам над левым глазом выделялся белым зигзагом на сильно загорелой коже.
– Покажите ваш паспорт! – повторил солдат; у него был высокий, пискливый голос.
Эндрюс чувствовал, как кровь забилась у него за ушами.
– Вы из военной полиции?
– Да.
– Ну так я в университетской команде.
– Что это за черт? – сказал военный полицейский с тонким смешком.
– Что он говорит? – спросила Женевьева, улыбаясь.
– Ничего. Мне придется пойти к офицеру и объясниться, – сказал Эндрюс задыхающимся голосом. – Вернитесь к вашей тетушке. Я приду, как только все устрою.
– Нет, я пойду с вами.
– Пожалуйста, вернитесь. Дело может принять серьезный оборот. Я приду, как только смогу! – резко сказал Эндрюс.
Она поднялась на холм быстрыми, решительными шагами, не оборачиваясь.
– Вишь, счастливец! – сказал военный полицейский. – Смазливая девушка. Я бы и сам не прочь провести с ней полчаса.
– Послушайте, я состою в университетской учебной команде в Париже и сюда приехал без паспорта. Что теперь надо сделать?
– Они тебе укажут, не беспокойся! – пронзительно закричал военный полицейский. – Может быть, ты переодетый член Генерального штаба? Чего доброго! Университетская команда! Вот уж посмеется Билл Хеггис, когда услышит это. Ну уж удружил!.. Ну, пойдем, – прибавил он конфиденциальным тоном. – Если пойдешь смирно, не надену на тебя наручники.
– Почем я знаю, что вы действительно военный полицейский?
– Скоро узнаешь!
Они повернули на узкую улицу между серыми штукатуренными стенами, изъязвленными мхом и сырыми пятнами.
На стуле за окном маленькой винной лавки сидел и курил человек с красным значком военного полицейского. Он встал, когда увидел их, и, открыв дверь, взялся за ручку револьвера.
– Я поймал птичку, Билл, – сказал первый, грубо втолкнув Эндрюса в дверь.
– Молодец, Хендсом. Он смирный?
– Ничего, – пробурчал Хендсом.
– Сядь сюда! Если пошевельнешься, я всажу тебе пулю в кишки. – Военный полицейский выдвинул квадратную челюсть. У него была желтая кожа, вспухшая под серыми, тусклыми глазами.
– Он говорит, что он в какой-то, черт ее знает, университетской команде. Первый раз слышу такой номер. Ты слыхал?
– Есть при тебе бумаги? У тебя должны быть какие-нибудь бумаги.
Эндрюс пошарил в своих карманах. Он вспыхнул.
– Мне следовало бы иметь удостоверение от курсов.
– Конечно, следовало бы. Ох, этот молодец простоват, – сказал Билл, откидываясь на стул и выпуская дым из ноздрей. – Посмотри на его эполеты, Хендсом.
Полицейский подошел к Эндрюсу и распахнул ворот его шинели. Эндрюс отшатнулся всем телом.
– Я не надел их. Я забыл надеть их сегодня утром.
– Ни эполет, ни значка?
– Нет, есть… пехота.
– И нет бумаг… Ручаюсь, что он уже давно гуляет, – задумчиво сказал Хендсом.
– Лучше надеть на него наручники, – сказал Билл посреди зевка.
– Подождем немного. Когда приедет лейтенант?
– Не раньше вечера.
– Верно?
– Да. Поезда нет.
– А что ты скажешь насчет выпивки, Билл? Ручаюсь, что у этого парнишки деньги водятся. Пригласишь нас на стаканчик коньяка? Согласен, университетская команда?