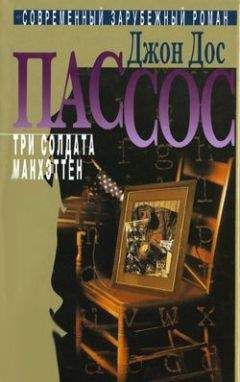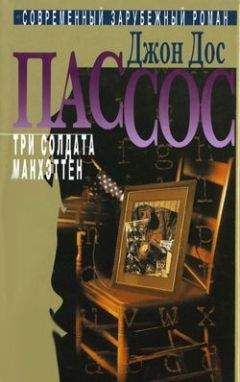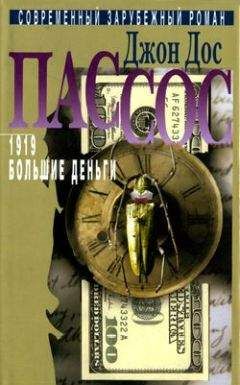Конвойный стоял неподалеку с сердитым лицом, весь одеревеневший – он боялся, что поблизости могут быть офицеры. Арестанты начали выгружать содержимое ведер; их ноздри вдыхали зловонный запах гниения, между зубами хрустела зола.
Воздух в мрачной столовой барака был насыщен паром, шедшим из кухни, помещавшейся на конце здания. Люди стояли в ряд у стойки, протягивая свои манерки, куда кашевар выплескивал суп. Иногда кто-нибудь останавливался и заискивающим тоном выпрашивал порцию побольше. Они ели, скученные вместе, за длинными столами из грубых, выструганных досок, покрытых пятнами от постоянно проливавшегося жира и кофе и еще мокрых от небрежной уборки. Эндрюс сел на край скамейки, недалеко от двери, через которую проникал слабый свет сумерек.
Он ел медленно, сам удивленный тем, с каким удовольствием ест эту жирную, грубую пищу, и удовлетворением, наступившим у него, почти назло ему самому. Гогенбек сидел напротив него.
– Забавно, – сказал он Гогенбеку. – На самом деле это не так плохо, как я ожидал.
– А чего ты ожидал от дисциплинарного батальона? Черт! Человек может привыкнуть ко всему; это единственное, чему научишься в армии.
– Мне кажется, люди склонны скорее свыкнуться с какими угодно обстоятельствами, чем сделать попытку изменить их.
– Ты чертовски прав. Есть покурить?
Эндрюс протянул ему папиросу. Они встали и вышли из барака, держа манерки перед собой. Сумерки сгущались, когда они мыли свою посуду в лохани, наполненной жирной водой, в которой густо плавали остатки гущи. Гогенбек сказал вдруг, понизив голос:
– Но все это нагромождается одно на другое, товарищ, когда-нибудь наступит возмездие. Ты веришь в религию?
– Нет!
– Я тоже. Я происхожу от людей, которые сами сводили свои счеты. Так делали мой отец и дед. Человек не может питаться собственной желчью изо дня в день, изо дня в день…
– Боюсь, что может, Гогенбек! – перебил Эндрюс.
Они пошли по направлению к баракам.
– Нет, черт возьми! – громко воскликнул Гогенбек. – Доходишь до такой точки, когда ты уже не можешь питаться собственной желчью, когда это уже не приносит пользы. Тогда ты встаешь и сокрушаешь все на своем пути.
Понурив голову, он медленно вошел в барак. Эндрюс прислонился к стене и глядел на небо. Он безнадежно пытался сосредоточить свои мысли, связать воедино нити своей жизни в этот момент освобождения от кошмара. Через пять минут труба оглушит его, и он будет водворен в бараки. Ему пришел в голову один мотив; он забавлялся им с минуту, но вдруг, вспомнив что-то, постарался отделаться от него с дрожью отвращения.
Эта улыбка дарует вам радость,
Эта улыбка навеет печаль…
Было почти темно. Два человека медленно проходили мимо.
– Сержант, могу я поговорить с вами? – раздался голос.
Сержант что-то пробурчал.
– Мне кажется, что два молодчика собираются улизнуть отсюда.
– Кто? Если вы ошибаетесь, тем хуже для вас, помните это.
– Сюрлей и Ватсон. Я слышал, как они говорили об этом около уборной.
– Дурачье проклятое!
– Они говорили, что скорее умрут, чем вынесут эту жизнь.
– Они говорили это? Говорили?
– Не говорите так громко, сержант. Никто из ребят не должен знать, что я говорил с вами. Скажите, сержант, – голос сделался плаксивым, – не думаете ли вы, что я уже почти отслужил свой срок здесь?
– А я почем знаю? Это не мое дело!
– Но, сержант, я был писарем, когда я служил в полку. Вам не нужен человек в конторе?
Эндрюс прошел мимо них в барак. Тупое бешенство овладело им. Он снял платье и молча закутался в одеяло. Гогенбек и Хеппи разговаривали за его койкой.
– Не беспокойтесь, – сказал Гогенбек, – кто-нибудь всыплет этому молодчику рано или поздно.
– Всыплет ему, как же! Люди так запуганы, что бросаются в сторону, когда им погрозишь пальцем. Дисциплина!
Эндрюс лежал молча, прислушиваясь к их разговору; все мускулы его болели от изнурительной работы целого Дня.
– Они судили его военно-полевым судом, мне говорил один человек, – продолжал Гогенбек. – И что же, вы думаете, они с ним сделали? В отставку на половинном жалованье! Он был майором.
– Господи, если бы мне только удалось удрать из этой проклятой армии! Я был бы чертовски рад… – начал Хеппи.
Гогенбек перебил его:
Так рад, что забыл бы грубое обращение и все неприятности и расхваливал бы всякому солдатское житье.
Эндрюс почувствовал, как насмешливые звуки трубы пронзили его уши. Голос надзирателя заревел с другого конца здания: «Тихо!» – и огни погасли. Уже слышно было глубокое дыхание спящих. Эндрюс лежал без сна, уставившись в темноту, и тело его трепетало монотонным ритмом дневной работы. Ему казалось, что он еще слышит плаксивые ноты в голосе человека, говорившего с сержантом в сумерках за стеной барака.
– Неужели и я дойду до этого? – спросил он самого себя.
Эндрюс выходил из уборной, когда услышал чей-то робкий зов:
– Моща!
– Да? – откликнулся он.
– Подойди сюда, я хочу поговорить с тобой.
Это был голос Малыша. В зловонном сарае, служившем уборной, не было света. Снаружи доносилось тихое мурлыканье часового, ходившего взад и вперед перед дверью барака.
– Будем с тобой товарищами, Моща!
– Идет, – сказал Эндрюс.
– Скажи, как ты думаешь, каковы шансы на побег отсюда?
– Чертовски мало шансов, – сказал Эндрюс. – Обручем отсюда не выкатишься, а?
Они тихонько захихикали. Эндрюс положил руку на руку юноши.
– Малыш, это слишком рискованно. Я попал в это положение из-за того, что рискнул. У меня нет желания начать все сначала; а если тебя поймают, это дезертирство. Ливенуортс на двадцать лет или на всю жизнь. Это конец всего.
– Ну а какого черта сидеть здесь?
– Ну, отсюда они нас когда-нибудь выпустят.
– Шш… – Малыш быстро закрыл рукой рот Эндрюса.
Они стояли неподвижно, так что слышали биение своих сердец. Снаружи чьи-то быстрые шаги зашуршали по гравию. Часовой остановился и отдал честь. Шаги затихли в отдалении, и часовой снова замурлыкал.
– Они посадили двух молодцов в карцер на месяц за то, что они разговаривали, вот как мы теперь… в одиночку… – прошептал юноша.
– Но, Малыш, у меня сейчас не хватит мужества попробовать.
– Я уверен, что у тебя-то хватит, Моща. У нас с тобой больше мужества, чем у всех у них, взятых вместе. Боже мой, если у людей есть мужество, с ними нельзя обращаться как с собаками. Видишь ли, если мне удастся когда-нибудь вырваться отсюда, я могу хорошо зарабатывать, составляя сценарии для кино. Я хочу добиться успеха в жизни, Моща.
– Но, Малыш, тебе нельзя будет вернуться в Штаты.
– Мне все равно. Весь свет не заключен в Америке. В Италии тоже ведь есть кино! Что, нет?
– Конечно, есть. Идем спать.
– Хорошо. Смотри же, мы с тобой теперь товарищи, Моща. – Эндрюс почувствовал пожатие руки юноши.
Эндрюс долгое время лежал без сна, в духоте и тьме, на самой нижней полке трехъярусных нар, прислушиваясь к храпу и дыханию спящих. Мысли беспорядочно мелькали в его голове, но в унылой безнадежности он мог только хмурить лоб, кусать губы и вертеться на скатанной шинели, которую он употреблял вместо подушки, с тупым вниманием прислушиваясь к глубокому дыханию людей, которые спали наверху и по бокам.
Когда он уснул, он увидел сон: они вдвоем с Женевьевой Род были в концертном зале Schola Cantorum; он безуспешно пробовал сыграть для нее какой-то мотив на скрипке – мотив, который он забыл, и от мучительных попыток вспомнить слезы струились у него из глаз. Потом он обнял Женевьеву за плечи и целовал ее, целовал до тех пор, пока не увидел, что он целует деревянную доску, на которой было нарисовано лицо с широким лбом и большими светло-карими глазами и тонкими, сжатыми губами, а в это время мальчик, который был в одно и то же время и Крисфилдом и Малышом, говорил ему, что он должен бежать, иначе его поймает военная полиция. Потом он сидел, застыв в холодном ужасе с бутылкой в руках, а в это время кто-то позади его страшным голосом пел очень громко:
Эта улыбка дарует вам радость,
Эта улыбка навеет печаль…
Труба разбудила его, и он вскочил так стремительно, что больно ударился головой о верхние нары. Он повалился на постель, морщась от боли, как ребенок. Но ему надо было отчаянно спешить, чтобы успеть одеться к перекличке.
С чувством облегчения он увидел, что завтрак еще не был готов; люди, ожидавшие в очереди около кухонного барака, притоптывали ногами и звенели манерками, продвигаясь в прохладном сумраке весеннего утра.
На телеге, отвозившей их на работу, Эндрюс и Малыш сидели бок о бок на тряском задке и пробовали говорить, покрывая голосами грохот колес.
– Нравится Париж? – спросил Малыш.
– Не в этой обстановке, – ответил Эндрюс.
– Один из молодцов сказывал, что ты очень хорошо говоришь по-французски. Я хочу, чтобы ты научил меня. Надо знать язык, если хочешь странствовать по стране.