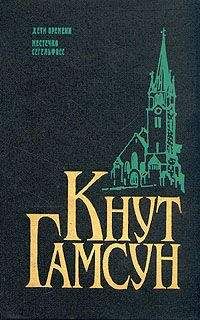– А вы можете это сделать?
– Что я могу сделать – об этом тебе нечего беспокоиться. Я беру это на свою ответственность. Тысячу крон под расписку. Юлий, и ты, Нильс-сапожник, вы – свидетели.
Юлий стал расспрашивать. Он был не из таких, чтобы пропустить без расспросов великих и малых мира сего, а тут ведь дело касалось всего лишь горничной Флорины. Но он получил только необходимые краткие ответы, а Флорина сказал: «Это тебя не касается, Юлий».– Так и сказал.
Затем Теодор положил на стол подробную расписку: такого-то года, месяца и числа, и нижеподписавшиеся, и на основании доверенности, в том, что с получением тысячи крон, прописью, поименованная Флорина отказывается впредь от всяких претензий к господину Дидрексону, вояжеру фирмы Дидрексон и Гюбрехт.
Но тут горничная Флорина стала раздумывать и отказалась расписаться: сумма была слишком мала, в сущности, ей следовало получить еще тысячу, потому что столько она потребовала: разинутая пасть ее требовала больше и больше; нельзя же позволить всякому заезжему барину поступать с бедной девушкой, как ему вздумается.
По настоянию Теодора она в конце концов расписалась, но не без ворчания: Юлия Теодор водил за руку, пока он расписывался, потому что Юлий сказал, что свои собственные буквы он пишет хуже всего. Зато Нильс-сапожник стоял прямой, как палка, и подписал свою фамилию неимоверно крупным почерком.
– Уплатить тебе сумму сейчас, или ты предпочитаешь оставить ее на вкладе у меня? – спросил Теодор.
Флорина, вероятно, находила, что синица в руке лучше журавля в небе, и потребовала сумму.
И так как Теодор только что получил все деньги за годовой улов трески, он широко распахнул свой несгораемый шкаф и вынул тысячу крон из пачки, а пачка даже как будто ни чуточки не убавилась от этого маленького платежа. Глубокий вздох вырвался из груди зрителей, а Нильс-сапожник тихо и слабоумно захихикал.
– Вот, пожалуйста, пересчитай, пересчитай сама, – сказал Теодор Флорине.
Он был счастлив, он стоял, точно опираясь на меч, случай вынудил его показать свои деньги, он был бы очень огорчен, если бы Флорина отказалась от получки. А кстати, теперь он уже не нуждался в деньгах господина Дидрексона, некоторое время тому назад оказавших ему такую замечательную поддержку. Это была сама судьба, все склонялось перед парнем Теодором.
Разумеется, он получил письмо от молодого господина Дидрексона, буйный повеса разошелся, надо полагать, он и на этот раз писал с какой-нибудь пирушки: «Девчонка – как же это ее зовут? – сегельфосская девчонка, господь с ней, но она просто-напросто насплетничала Рахили. Вы помните Рахиль, дочь консула? Поэтому уплатите сегельфосской девчонке только одну тысячу крон, она, негодница, насплетничала, и Рахиль расстроила помолвку. Словом, заплатите ей, сколько признаете нужным. Местер – вы знаете Местера, он неизменный мой закадычный друг и удивительно скупой малый – Местер говорит, чтобы мы дали ей только половину, но я хочу, чтоб негодница получила тысячу, она этого стоит, я мог бы дать ей больше, все, что у меня было. Рахиль порвала со мной, я узнал об этом в счастливую минуту, как раз, когда обручился с другой. Вы представить себе не можете, как она очаровательна, молодая особа здешняя уроженка, я любил ее все время, но она согласилась только теперь, когда я связался с другой, как же это ее фамилия? А теперешнюю зовут фрекен Гюбрехт, дочь хозяина фирмы, по семнадцати лет. Я покажу вам ее портрет, когда приеду. Рахиль прислала мне потом другое письмо, но оно ничего не может изменить в принятом мною решении. Я очень счастлив, и так как негодная сегельфосская девчонка некоторым образом тому причина, то прошу вас поблагодарить ее за меня от чистого сердца. Я не могу забыть Рахиль, для этого я слишком сильно к ней привязался, но, в общем, это все-таки мимолетная влюбленность, а от судьбы своей никто не может уйти. Фрекен Гюбрехт зовут Еленой, голубые глаза, восемнадцать лет. Итак, не откажите в любезности передать мою благодарность девице и примите сами мою глубокую признательность за то, что вы так любезно взялись уладить это дело. До свидания».
Знакомство с молодым Дидрексоном оказало хорошее влияние на Теодора, великий повеса был легкомыслен, но благороден, с широким размахом, и добрым сердцем, – Теодор не взял комиссионного вознаграждения ни с одной из сторон и в тот же день отослал расписку и остальные деньги. То был день похорон отца – тот самый день, когда перед хозяином гостиницы Юлием вдруг раскрылось, какая завидная партия горничная Флорина, и он начал искать сближения с нею.
После великих событий Сегельфосс мало-помалу успокоился. Поговаривали, будто весной мельницу опять пустят в ход, но пока что стояла зима, и многим жилось тяжело. Теодор-лавочник проявил в эти дни больше отзывчивости, чем от него ожидали, он распространял вокруг себя бодрость, снарядил нескольких наемных рабочих на Лофоден и вообще помогал людям кормиться.
Раскаты после падения господина Хольменгро гремели долго, но Теодор был теперь уже не настолько близорук, чтоб нападать на помещика: оказалось, что, с остановкой мельницы, деньги в местечке исчезли, Теодору не с кем стало торговать, господин Хольменгро поддерживал все. Теперь фотограф сидел на своем чердачке и умирал с голоду, а Нильс-сапожник заработал свои последние две кроны на похоронах Пера из Буа, «Сегельфосская газета» лишилась подписчиков. Правда, Теодор помогал и там и сям и не лежал, как камень, но толку выходило мало, – Сегельфосс спал, торговля и движение прекратились, поговаривали, что телеграф может обойтись одним телеграфистом, а там станцию и совсем закроют. В таком случае, Борсену придется остаться за флагом.
А что касается до Нильса-сапожника, то он стал совсем прозрачным, каким– то призраком, потому что всякие танцы и представления в театре прекратились. Пока хватало сил, он летал, легкий и донельзя нищий, по дорогам, в своих истрепанных покупных сапожках, поражая всех своей худобой. Особенную жуткость и вместе комичность придавало бедняге его масляно-умильное лицо, – оно производило впечатление, как будто он постоянно прислушивался к чему-то веселому, вид у него при этом делался страшный, близкий к помешательству. Последняя надежда его лопнула, он отправился к адвокату Рашу и прошел в контору, чтобы не показываться в этот день барыне, – спросил адвоката, скоро ли будет базар в пользу благоденствия Сегельфосса, и получил ответ, что времена теперь не для базаров.
– Так, так, – сказал Нильс-сапожник, но это была его последняя недежда.
Оттуда он пошел в лавку и купил несколько сухариков, – наверное, никто не голодал так основательно, как он:
– Дайте мне парочку сухариков для послеобеденного кофе, – сказал он.
Когда пришлось расплачиваться, он несколько раз вытаскивал ту же самую монету в пять эре и долго рылся в кошельке, как будто в нем не так-то уж мало денег. Уходя, он улыбнулся. Он всегда легко улыбался, но если теперь он улыбнулся, так потому что это было необходимо.
Два дня спустя Борсен ввалился в его избенку с провизией и водкой и в самом веселом расположении духа.
– Ха-ха! Я шел мимо и решил заглянуть к тебе, – сказал он.– Ну-ка, попробуй вот это!
Нильс-сапожник лежал в постели – подагра, сказал он – и потому в печке у него не было огня. Он с большой готовностью отведал вкусных закусок и выпил стаканчик. Борсен вел себя, как доктор, и сказал:
– Оставь пока эту колбасу, от нее тебе захочется пить, съешь лучше хлеба с маслом! Вот хорошо, что ты закусишь со мной; я иду издалека, и со мной были эти припасы!
Борсен затопил печку и так накалил сапожника, что тот вылез из постели и сварил кофе.
– Ха-ха, Нильс-сапожник, дела наладятся, все еще наладится!
– Оно похоже, что налаживается, когда вы приходите! И, конечно, дела шли, но как? В глазах всех разумных людей, они шли вспять. Нильса-сапожника нельзя было поставить на ноги одним обедом и стаканчиком водки, для этого он зашел уж слишком далеко, а Борсен не интересовался ни ходом дел, ни тем, что ожидает его самого. Он никуда не собирался, бросил работу и жил со дня на день. Занимался праздными размышлениями, немножко благотворительствовал какому-то сапожнику, пил, играл на виолончели и произносил высокопарные речи, – все разумные люди поневоле от него отвернулись. Но поискать еще такого спокойствия и величия в самом падении!
– Не будь у меня сейчас такого стеснения в деньгах, я взялся бы реставрировать Тронгеймский собор, – сказал он Нильсу-сапожнику.
– Не похоже, чтоб у вас было стеснение в деньгах! – ответил сапожник, уже сытый и захмелевший. Совсем призрак.
Борсен не ел, но пил. И пил он все-таки не из порочности и малодушия, чтоб облегчить себе жизнь, или от отчаяния, чтоб сократить ее, – Борсен малодушен? Ничего подобного. Он был тверд и спокоен, он находил, что хорошо и так. Если он мало ел, то оттого, что он не был ни голоден, ни сыт, а аккурат в точку, и чувствовал себя хорошо. Оба телеграфиста держали что-то в роде экономки, женщину, которая на них стряпала, но женщине пришлось уйти, потому что нечего было стряпать. Готфред стал обедать в гостинице, Борсен же вообще не обедал. Готфред, желая помочь ему, звал его с собой обедать в гостиницу, но Борсен благодарил и отвечал: «Не стоит, дружок!» Готфред все время помогал ему, и когда Борсен лежал больной от своей раны, и позже, когда обнаружилась его растрата и его сместили из начальников станции, – Борсена трогала эта доброта, и он благодарил за каждую мелочь, но ни в чем не изменял своей жизни. Должно быть, у него от рождения была естественная склонность к гибели. Неужели у него не было родных, семьи? Ведь кто-то из проезжих узнал в нем блудного сына богатого торгового дома? Может быть, у него была семья, а может быть и нет. Его поразительное равнодушие к своим деньгам и к чужим объяснялось, может быть, тем, что вначале он рассчитывал на семью, которая могла ему помочь, – он привык к безответственности и плевал на все. Но когда дело пришло к развязке, он не искал нигде помощи и ниоткуда не получил ее, а попросил у инспектора разрешения пополнить недостачу ежемесячными выплатами. Помощь? Нет. Точь-в-точь так, как будто у него не было никакой семьи. Но само собой разумеется, Готфреду пришлось пополнить кассу вместо него.