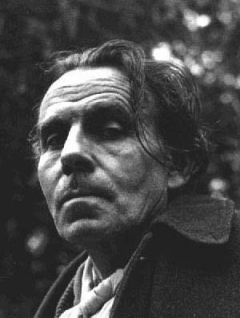Всем невтерпеж.
— Что надумал, Пьер? — сыплются на него вопросы.
Пьер почесывается и садится у изголовья роженицы, словно не узнавая жену, производящую на свет столько муки; потом вроде как пускает слезу и опять встает. Его снова спрашивают о том же. Я уже выписываю направление в больницу.
— Думай, думай, Пьер! — заклинают его окружающие.
Он старается, но знаком показывает, что у него ничего не выходит. Он распрямляется и со стаканом в руке, пошатываясь, идет на кухню. Ждать дольше нет смысла. Колебания мужа могут затянуться на всю ночь — это ясно каждому. Лучше уж уйти сразу.
Накрылась моя сотняга, вот и все! Впрочем, в любом случае у меня были бы неприятности с акушеркой, это ясно. С другой стороны, не прибегать же мне было к оперативному вмешательству на глазах у всех, да еще при моей усталости. «Черт с ним! — сказал я себе. — Мотаем отсюда. Повезет в другой раз. Положимся на эту шлюху-природу».
Едва я вышел на площадку, как все ринулись мне вдогонку, а муж скатился вслед за мной по лестнице.
— Эй, доктор, не уходите! — закричал он.
— Что вам от меня нужно? — огрызнулся я.
— Погодите, доктор, я вас провожу. Ну пожалуйста, погодите.
— Хорошо, — уступил я и позволил проводить себя до самой парадной. Мы спустились вниз. На втором этаже я все-таки заглянул в квартиру ракового больного и попрощался с его семьей. Пьер зашел и вышел вместе со мною. На улице он пристроился ко мне, взял ногу. Было свежо. По дороге нам попался щенок, учившийся долгим воем отвечать другим собакам Зоны. Выл он упорно и жалобно. В своих тренировках он продвинулся настолько далеко, что уже облаивал прохожих. Скоро он станет матерым псом.
— Глядите-ка, да это ж Желток, — заметил муж, довольный тем, что, зная собачонку, может сменить тему разговора. — Его соской выкормили дочки прачечника с Девчоночьей улицы. — Вы с ними знакомы?
— Да, — подтвердил я.
На ходу он принялся рассказывать, как выкармливать щенят молоком так, чтобы выходило не слишком накладно. Тем не менее под завесой этих рассуждений он все время возвращался мыслью к жене.
У заставы нам попалось еще не закрытое бистро.
— Зайдемте, доктор? Угощу вас стаканчиком. Мне не хотелось его обижать.
— Зайдем, — согласился я.
— Две смородинных!
Я воспользовался случаем и заговорил с ним о его жене. От моих слов он посерьезнел, но убедить его принять решение так и не удалось. На стойке триумфально красовался большой букет цветов. По случаю дня рождения Пьянара, хозяина заведения. «Дети подарили», — пояснил он, не дожидаясь расспросов. Мы выпили по вермуту за его здоровье. Над стойкой висел Закон о пьянстве и обрамленное свидетельство об образовании. Увидев его, Пьер неожиданно потребовал, чтобы хозяин перечислил ему супрефектуры департаментов Луар и Шер: он их когда-то выучил и до сих пор помнил. После этого он заявил, что на свидетельстве значится не фамилия хозяина, а чья-то другая, они поцапались, и Пьер опять уселся рядом со мной. Его окончательно одолели сомнения. Настолько, что он даже не заметил, как я ушел.
Больше я его не видел. Никогда. Я был вконец обескуражен всем, что произошло в то воскресенье, и к тому же отчаянно устал.
Не прошел я и ста метров по улице, как заметил, что навстречу мне идет Робинзон и тащит какие-то доски, большие и маленькие. Хоть и было темно, я сразу его узнал. Смущенный встречей со мной, он попытался проскользнуть мимо, но я остановил его.
— Ты же собирался лечь спать? — говорю я ему.
— Тс-с! — шепчет он. — Я со стройки.
— На что тебе эти деревяшки? Тоже надумал что-нибудь строить? Уж не гроб ли? А доски, наверно, украл?
— Нет, не гроб — садок для кроликов.
— Ты что, кроликов стал разводить?
— Нет, это для Прокиссов.
— Для Прокиссов? Они кроликов завели?
— Да, трех. Хотят поместить их во дворике, знаешь, где живет старуха.
— И ты по ночам строишь для них клетку? Странное же время ты выбрал.
— Это его баба придумала.
— Странная придумка! Зачем ей кролики? Продавать будет? Цилиндры из них шить?
— Это ты у нее спроси, когда увидишься, а мне бы только сотню с нее содрать…
История с кроличьей клеткой среди ночи все-таки показалась мне подозрительной. Я стал допытываться. Робинзон попробовал замять разговор.
— Как ты вообще к ним попал? — снова полюбопытствовал я. — Ты ведь не знаком с Прокиссами.
— Я же говорю, старуха свела меня к ним в тот день, когда я столкнулся с ней у тебя в приемной. Ты не представляешь, до чего она болтлива. Как разинет варежку, так удержу нет. Ну, я и подружился с ней, а потом с ними. Понимаешь, есть люди, которым и я интересен.
— А мне ты почему об этом не рассказывал? Но раз ты там бываешь, тебе должно быть известно, удалось ли им спихнуть старуху в богадельню.
— Нет, они говорят, не получилось.
Я чувствовал, что разговор неприятен Робинзону и он не знает, как от меня отделаться. Но чем он больше вилял, тем упорней я допытывался.
— Жизнь — трудная штука, не находишь? На что только идти не приходится, — уклончиво выкручивался он.
Но я неотступно возвращал его к начатой теме. Я твердо решил не давать ему уйти от ответа.
— Говорят, Прокиссы побогаче будут, чем кажутся. Как думаешь, это правда? Ты же у них бываешь.
— Может, оно и правда, но в любом случае им невтерпеж избавиться от старухи.
Притворяться Робинзон был не мастер.
— Понимаешь, им это нужно, потому как жизнь все дорожает. Они говорят, ты не хочешь признать старуху сумасшедшей. Это верно?
И, не дожидаясь ответа, он спросил, в какую мне сторону.
— Ты с визита?
Я вкратце описал ему свое приключение с мужем роженицы, которого потерял по дороге. Он расхохотался, отчего тут же закашлялся. От кашля Робинзона так скрючило, что я почти не видел его в темноте, хотя мы стояли совсем рядом. Я различал только его дрожащие руки, которые он сложил и заботливо поднес к губам, словно большой бледный ночной цветок.
Кашлем он заходился, пока мы не добрели до его дома.
— А все сквозняки! — выдавил он, переведя наконец дух. — Да уж, сквозняков тут хватает. И еще блох. А у тебя блохи водятся?
У меня они водились.
— Еще бы! — ответил я. — Вечно их у пациентов набираешься.
— Тебе не кажется, что от блох ссакой твоих больных несет?
— И еще потом.
— А все-таки я не прочь заделаться санитаром, — поразмыслив, медленно выдавил он.
— Почему?
— Потому что, когда люди здоровы, они, что ни говори, нагоняют на тебя страх. Особенно после войны. Я-то знаю, что у них на уме. Да они и сами это всегда понимают. Пока они на ногах, им хочется вас убить. А вот как слегли, тут уж ничего не скажешь — с ними не так боязно. От них всего можно ждать, пока они на ногах. Это я тебе говорю. Что, не правда?
— Правда, — поневоле согласился я.
— Да ты сам разве не по той же причине в доктора подался? — спросил он еще.
Подумав, я сознался себе, что Робинзон, пожалуй, прав. Но тут на него опять напал кашель.
— Ты промочил ноги, того гляди, плеврит схватишь, шатаясь по ночам. Топай-ка домой и ложись спать, — посоветовал я.
Постоянные приступы кашля раздражали его.
— А уж старуха Прокисс славный грипп подцепит, — посмеиваясь, прокашлял он мне в ухо.
— С чего бы?
— Вот увидишь, — заверил он.
— Что они еще задумали?
— Больше ничего не скажу. Сам увидишь.
— Выкладывай все, Робинзон, свинья ты этакая. Ты же знаешь: я-то никому не проговорюсь.
Теперь его разбирала охота во всем признаться — может быть, для того, чтобы убедить меня, что не так уж он выдохся и скис, как я, наверно, считаю.
— Валяй! — подстегнул я его осторожно. — Ты же знаешь, я не болтун.
— Это точно, молчать ты умеешь, — признал он. И пошел вываливать все в подробностях — на тебе!
В этот час мы были совсем одни на бульваре Невинных жертв.
— Помнишь случай с торговцем морковью? — начал он. Случай с торговцем морковью я припомнил не сразу.
— Да помнишь ты! — настаивает Робинзон. — Ты же сам мне о нем рассказывал.
— Ах да! — разом припоминаю я. — Железнодорожник с Осенней улицы. Тот, кому еще заряд дроби в мошонку всадили, когда он кроликов воровал?
— Правильно. А случилось это у фруктовщика на набережной Аржантейль.
— Точно. — Теперь я знаю, о ком он говорит. — Ну и что?
Я все еще не усматриваю связи между этой давней историей и старухой Прокисс.
Робинзон незамедлительно ставит точку на «i».