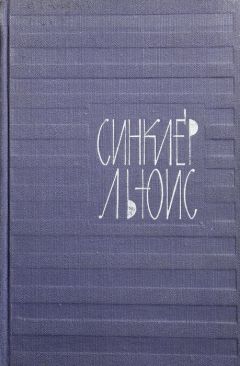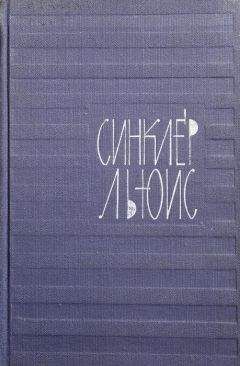Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы!
Кто сей царь славы? Господь сил, он — царь славы».
Раздался стук в дверь, и озабоченный голос отца спросил: «Энн! Энни! Что с тобой? Ты заболела?»
В эту минуту Энн ненавидела всех мужчин, кроме царя славы, — ради него она готова была пожертвовать всеми самодовольно ухмыляющимися Адольфами и всеми снисходительными отцами на свете. Она пришла в ярость, но тем не менее вежливо ответила:
— Нет, нет. Прости, папочка. Я просто читала вслух — повторяла урок. Прости, пожалуйста, что я тебя разбудила. Спокойной ночи, милый.
— Ну как, весело было на вечеринке?
Энн всю жизнь суждено было лгать по-джентльменски.
— Замечательно! Спокойной ночи! — пропела она.
«Да, придется мне все это бросить. Мальчишки, которые мне нравятся, никогда меня не полюбят. А ведь они мне правда нравятся! Но мне уж придется довольствоваться тем, что я сама как мальчишка.
Но я вовсе не хочу быть мальчишкой.
Я должна что-то сделать! «Поднимитесь, двери вечные!»
Он был такой сильный и стройный!
Да ну его!
Я больше никогда не буду унижаться и не буду никого любить.
Эта картина висит криво.
А Мейбл и такие, как она! Так и вешаются на шею мальчишкам!
Я больше никогда, никогда не позволю мальчишкам смеяться надо мной за то, что я им не вру.
«Поднимитесь, о двери!» Я ложусь спать!»
Хотя Энн часто встречала Адольфа в бакалейной лавке, куда он удалился в поисках отдохновения от тягот школьной жизни и науки, и хотя наступил период, когда их компания резко разделилась на мальчиков и девочек, Энн Виккерс уже больше не интересовалась Адольфом Клебсом.
— Ей-богу, Энн Виккерс какая-то странная, — заметила Милдред Эванс. — Она просто спятила! Говорит, что не хочет выходить замуж. Хочет стать доктором, или адвокатом, или еще не знаю кем. Окончательно спятила!
О Милдред, как мудра была ты тогда и как мудра ты теперь! Разве сегодня у тебя, жены Бена, не самый лучший радиоприемник во всем городе? Разве ты не можешь слушать по радио Эмоса и Энди или глубокомысленные поучения Рамсея Макдональда[17] из Лондона? Разве ты не разъезжаешь на собственном бьюике, в то время как Энн трясется в старом, разбитом форде? Разве ты не играешь в бридж в самом избранном обществе, в то время как она играет в пинокль с одним — единственным молчаливым партнером? Добрая Милдред, мудрая Милдред, ты никогда не пыталась идти против течения.
Спокойной ночи, Милдред. Ты нам больше не нужна.
Тот сочельник, когда Энн исполнилось семнадцать лет, словно сошел с рождественской открытки. Когда она бежала в церковь на занятия воскресной школы, уютные огоньки из окон соседних домов освещали покрытую снегом дорогу и санная колея сверкала, словно отполированные стальные полосы. Высоко в небе сиял студеный месяц, тихонько позвякивали укутанные инеем елки, и в сухом, морозном воздухе трепетало веселое дыхание праздника.
Энн была ужасно занята — слишком занята, чтобы уделять столько внимания модам и нарядам, как в дни суетности, когда ей было пятнадцать лет. Разумеется, она предпочла бы что-нибудь более элегантное, чем клетчатая шелковая блузка и ненавистный толстый полушерстяной костюм, купленный ей благоразумным отцом, — да, но ведь дни ее легкомыслия канули в прошлое.
Теперь Энн была учительницей среднего класса для девочек в Первой пресвитерианской церкви — того самого класса, которым некогда руководила миссис Фред Грейвс, ныне покоящаяся на Гринвудском кладбище, того самого класса, из которого девочка по имени Энн Виккерс была изгнана за крамольные мысли по поводу нравственного воспитания женщин. Сегодня средний класс для девочек должен был исполнить кантату «Внемлите, ангелы-вестиики поют», и Энн торопилась, ужасно торопилась. Ведь ей совершенно необходимо быть там и взять дело в свои руки, чтобы ее класс произвел должное впечатление на слушателей.
Подойдя к церкви, Энн сразу погрузилась в праздничную атмосферу. Окна горели золотом, над дверью красовалась готическая деревянная арка. На паперти собрались все мальчики, которые хотя и пренебрегали своими благочестивыми обязанностями пятьдесят недель в году, в течение последних двух начали проявлять весьма похвальное рвение.
Внутри церковь напоминала украшенную зеленью хрустальную пещеру. Даже написанные на боковых стенах назидательные изречения вроде «Да будет благословенно имя божие» или «Спасен ли ты?» наполовину скрылись под венками из остролистника. Но все затмевала своим великолепием установленная на возвышении рождественская елка, не менее десяти футов высотой, вся увешанная свечками и ангелами из папье-маше. (В сочельник пресвитерианская церковь позволяла себе приблизиться к католической настолько, что допускала ангелов вместе с младенцем Христом.) Свечки на темно-зеленом фоне, свечки, белые ангелы, серебряные шары и снежные хлопья, изготовленные из ваты. А под елкой лежали чулки — по одному для каждого юного пресвитерианина, даже для тех, кто был убежденным кальвинистом всего только последних две недели; накрахмаленные нитяные чулки, и в каждом апельсин, кулек с леденцами — в том числе и с красными мятными, на которых был напечатан весьма подходящий к случаю призыв: «Ко мне, крошка!»-три бразильских ореха (известных в Уобенеки под названием «негритянские пальчики»), дешевое издание Евангелия от Иоанна и наконец подарок — жестяная дудочка, свисток или тряпичная обезьянка.
Все это приобрел на свое жалованье (тысячу восемьсот долларов в год) — когда он его получил — новый пастор, преподобный Доннелли. Этот молодой человек не отличался особой мудростью. Юношей и девушек, в том числе и Энн Виккерс, он запугивал образом свирепого старого бога, который неусыпно следит за ними, стараясь изловить их на каком-нибудь мелком грешке. А проповеди его были скучны, скучны до сонной одури. Но он был преисполнен такой доброты, такого рвения! И не кто иной, как его преподобие (а отнюдь не преподобный мистер, как его называли в просторечии), ринулся по проходу между скамьями навстречу Энн.
— Мисс Виккерс! Как я рад, что вы пришли пораньше! Это будет чудесный сочельник!
— Да, да, конечно. Ачтомойклассготов? — энергичной скороговоркой выпалила Энн.
Церемония проходила великолепно. Молитва; псалом «Приидите, верующие» в исполнении церковного хора и всех прихожан; комическая песенка зубного врача Бриверса; кантата под управлением Энн Виккерс, лихо размахивавшей дирижерской палочкой, и в заключение истинный гвоздь программы — раздача рождественских чулков очень красивым, преисполненным благолепия, наряженным в красную шубу седобородым Санта Клаусом (в частной жизни мистер Бимби, кларнетист и приказчик галантерейного магазина «Эврика»).
Речь мистера Бимби:
— Итак, девочки и мальчики, я долго пробивался сквозь снега и льды и… гм-гм… сквозь ледники Северного полюса, ибо мне сказали, что девочки и мальчики пресвитерианской церкви города Уобенеки — очень хорошие дети, которые слушаются своих родителей и учителей, и вот я отказался от свидания с папой римским, и с королем Англии, и со всей прочей публикой и явился к вам сюда самолично, собственной персоной.
Энн Виккерс, как участница церемонии, сидела в одном из первых рядов и с тревогой смотрела на свечку, которая все ниже клонилась к ветке рождественской елки. Она ругала себя за этот глупый страх, но все же никак не могла уследить за остроумными шуточками мистера Бимби, который между тем продолжал:
— Однако сдается мне, что кто-то из вас в нынешнем году вел себя не совсем как следует. А кое-кто иной раз даже пропускал занятия в воскресной школе. Мне известно, что в моем классе… то есть, я хотел сказать, мой друг Тед Бимби позвонил мне по телефону и сообщил, что иногда, в погожие летние деньки…
Свечка повисла, словно усталая рука. Энн крепко сжала пальцы.
— …некоторые мальчики предпочитают удить рыбу вместо того, чтобы слушать слово божие и изучать деяния Иакова, Авраама и всех прочих мудрых старцев и следовать их примеру…
Свечка коснулась ваты. Елка мгновенно вспыхнула ярким горячим пламенем. Преподобный Доннелли и Санта Клаус, окаменев от ужаса, уставились на нее. Энн Виккерс, оттолкнув мистера Бимби, вскочила на возвышение.
Дети, охваченные безотчетным детским страхом, с воплями ринулись к выходу.
Энн схватила плетеный коврик, которым была украшена кафедра, бросила его на пылающую елку и, не обращая внимания на ожоги и невыносимую боль, принялась голыми руками сбивать вырывавшиеся из-под коврика языки пламени. Она была в такой ярости, что слетевшее с ее уст восклицание «Ах ты, господи!» гораздо больше напоминало «Ах ты, черт побери!».