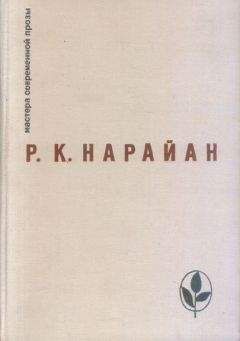Я мчался по Базарной улице, не разбирая дороги. Вслед мне звучал голос Джайраджа:
— Постой, постой, сейчас кончу и провожу тебя.
Лысый тоже что-то кричал визгливым голосом, но я все бежал. Я натыкался на встречных, меня ругали:
— Куда, не видишь, что ли? Уж эти нынешние мальчишки!
Я боялся, как бы Джайрадж не крикнул: «Держите его! Не отпускайте!» Вскоре я замедлил бег. Я не помнил, в какой стороне наш дом, но вдруг увидел Джаганову лавку, на этот раз справа от себя, и понял, что отсюда мы и шли. Голова у меня гудела от рассказов Джайраджа. Представить себе, что мой дядя мог лукавить, обманывать, убивать, было мучительно больно. Все, что касалось моих родителей, меня не так волновало. Это были образы далекие, туманные.
Неверной, спотыкающейся походкой я добрел до конца Базарной улицы. Прохожие поглядывали на меня с любопытством. Чтобы они не догадались, что я в первый раз один на улице в такой поздний час, я постарался принять независимый вид, стал насвистывать и напевать «Рагхупати рагхава раджа рам». Когда я дошел до памятника Лоули, фонарей стало совсем мало, и горели они тускло. В этом новом районе дома стояли каждый в глубине своего участка, тут не постучишь в дверь, не позовешь на помощь. И нечего было ждать помощи от мальчиков, что болтали, прислонясь к велосипедам: это были большие мальчики — того и гляди, поднимут на смех или изобьют. В стороне от всех лежал на земле бездомный бродяга, нечесаный, очень страшный на вид, но он хотя бы смотрел на меня, а остальные словно и не замечали моего присутствия. Я весь сжался у подножия этой жуткой статуи. А ну как она вдруг сдвинется с места и наступит на меня? Бродяга протянул руку и сказал:
— Дай монетку, я куплю себе какой-нибудь еды.
— У меня нет денег, ни одной пайсы, — сказал я и вывернул карман рубашки, чтобы он мне поверил. — Я и сам голоден.
— Тогда ступай домой, — приказал он.
— Я бы рад, но я не знаю, где улица Винаяка.
Этими словами я выдал себя, пошел на страшный риск. Если он сообразит, что я заблудился, он может схватить меня, увести из города и продать в рабство.
— Я доведу тебя до дому. Скажешь матери, чтобы дала мне за это немного рису?
Матери! В голове у меня все поплыло. Моя мать — та женщина, что погибла от руки дяди… я-то всегда считал своей матерью тетю…
— У меня только тетя, — сказал я, — а матери нет.
— Тетки меня не любят, так что иди уж лучше один. Поверни обратно, отсчитай три улицы и сверни налево, если знаешь, где у тебя левая рука, потом направо — и выйдешь на улицу Кабира.
— Улицу Кабира я знаю, там колодец, — сказал я с облегчением.
— Вот туда и иди, а после колодца свернешь, тут тебе и улица Винаяка. Нечего шататься по всему городу. В такой час маленькие мальчики должны сидеть дома и готовить уроки.
— Хорошо, сэр, — сказал я почтительно и робко. — Как приду домой, сяду готовить уроки, обещаю.
Указания его помогли. Я дошел до старого колодца на улице Кабира, а уж когда выбрался на улицу Винаяка, почувствовал себя победителем. Даже слова Джайраджа перестали меня терзать. Собаки на нашей улице устроили мне шумную встречу. В этот час наша улица была пустынна, и сторожили ее только бездомные дворняги, которые бродили там целыми стаями. Сперва они свирепо залаяли, но скоро узнали меня и успокоились. Так, под охраной собак, виляющих хвостами и на радостях задирающих ногу у каждого фонарного столба, я дошел до своего дома. Дядя и тетя, стоявшие на крыльце, накинулись на меня с расспросами.
— Дядя уж собрался идти тебя искать, — сказала тетя.
Дядя обхватил меня обеими руками и даже приподнял в воздух — до того был рад, что мы снова вместе.
— А где рамочник? Он же обещал проводить тебя. Время-то одиннадцатый час.
Не дав мне ответить, тетя сказала:
— Говорила я тебе, как можно верить таким людям?
— А где фотография?
На этот вопрос я не успел приготовить ответа. Что я мог сказать? Я только расплакался от вновь нахлынувшего душевного смятения. Уж лучше плакать, чем говорить. Я боялся, что если заговорю, то не удержусь и упомяну про другую фотографию, ту, что появилась из темного чулана.
Тетя тут же сгребла меня в охапку, горестно причитая:
— До чего же ты, должно быть, голоден!
— Он ничего не дал мне поесть, — всхлипнул я.
Всю ночь я метался в постели. Я колотил ногами в стену и стонал и вдруг проснулся от путаных кошмаров, порожденных всем, что я пережил за этот день. Дядя мирно похрапывал в своей спальне, мне было видно его через открытую дверь. Я приподнялся и стал на него смотреть. Он принял обличье доктора, но это обвинение казалось не очень серьезным: мне всегда думалось, что доктора с их резиновыми трубочками и запахом лекарств только и делают, что притворяются. Держал в плену мою мать и отравил ее? Но для меня матерью всегда была тетя, а она жива и здорова. От той матери не осталось даже выцветшего снимка, как от отца. Фотограф говорил что-то про золото и драгоценности. К тому и другому я был равнодушен. Денег, сколько нужно, давал мне дядя, он ни в чем мне не отказывал. А драгоценности, все эти блестящие побрякушки, к чему они? Сластей на них ведь не купишь. И подумать только, что беженцы из Рангуна всю дорогу тащили с собой эту чепуху! На свой лад я перебирал и оценивал все обвинения против моего дяди и отбрасывал одно за другим, хотя образ его, возникший из мрачного шепота и украдкой брошенных взглядов на пороге полутемного чулана, был достаточно страшен. Мне нужно было что-то узнать сейчас же, не откладывая. Тетя, спавшая на циновке у отворенной задней двери, пошевелилась. Удостоверившись, что дядя по-прежнему храпит, я тихонько встал и подошел к ней. Она-то сразу заметила, что я не в себе, и теперь спросила:
— Что это тебе не спится?
Я прошептал:
— Тетя, ты не спишь? Можно я тебе расскажу одну вещь?
Она кивнула. Я пересказал ей все, что говорил Джайрадж. Она сказала только:
— Забудь. А дяде об этом и не заикайся.
— Почему?
— Не задавай лишних вопросов. Иди к себе и спи.
Что мне оставалось? Я так и сделал. На следующий день Джайрадж прислал нам с каким-то человеком мое фото, в рамке и под стеклом. Дядя подробно разглядывал его в луче света, падавшем со двора, потом заявил:
— Работа отменная, за такую и трех рупий не жалко. — Он взял молоток и гвоздь, долго выбирал подходящее место и наконец повесил фото на стену над своим креслом, под большим портретом предка.
Я послушал тетиного совета и не задавал вопросов. Я подрастал, круг моих знакомств расширялся, и время от времени я слышал туманные намеки по поводу моего дяди, но упорно пропускал их мимо ушей. Только раз, в студенческом общежитии в Мадрасе, я чуть не задушил однокурсника, который пересказал мне какую-то сплетню про дядю. Бывало, что после таких разговоров дядя начинал казаться мне чудовищем, и я подумывал, что в следующее наше свидание нужно вывести его на чистую воду. Но когда он встречал меня на платформе, его потное лицо светилось такой трогательной радостью, что язык не поворачивался спросить его о прошлом. Я окончил среднюю школу при миссии Альберта, после чего он послал меня в колледж в Мадрас; не реже раза в неделю он писал мне открытки, а мои приезды на каникулы отмечались бесконечными пиршествами. В карты он, вероятно, проиграл куда больше денег, чем истратил на меня. Но я не был на него в обиде. Я никогда и ни за что не был на него в обиде. Снова и снова меня подмывало спросить: «Ну, сколько же я стою? И где мои родители?» Но я не давал себе воли. Так я сберег хрупкие узы нашей дружбы до самого конца его жизни. После его смерти я разбирал его бумаги — ни следа переписки или какого-нибудь документа, указывающего на мою связь с Бирмой, ничего, кроме лакированной шкатулки с драконом. В завещании он отказал мне дом, все свое имущество и скромный счет в банке и вверил моему попечению тетю.
Вина — индийский струнный инструмент.