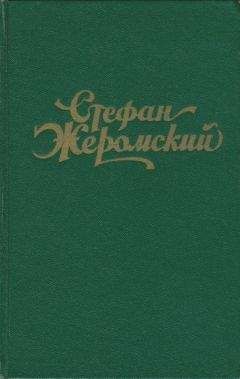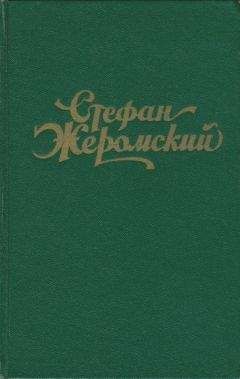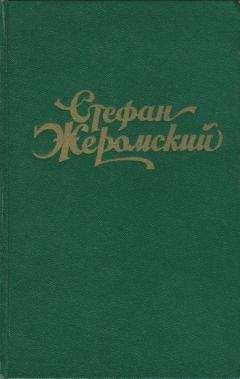«Интересно знать, — думал пан Доминик, — составил ли и переписал ли Петрек счета? Верно, думал, бездельник, что я ему дам по целым дням слоняться по хатам (должно быть, учит девок по — немецки разговаривать) и бить баклуши… Нет… посиди‑ка, пан химик, за приходо — расходными книгами, понаставь цифр, напиши красивым почерком сводки для господина инженера, выручи старика отца. Даром, что ли, стану я тебе возить табак да тратить деньги на сардинки?»
Лошади въехали во двор и остановились у крыльца. Пан Цедзина слез с саней и вошел в сени, с шумом отряхивая снег с сапог. В дверях комнаты показался доктор Петр.
— Что это? У тебя, видно, голова болит?! — воскликнул пан Доминик.
— Да нет! — принужденно ответил сын.
— Что же ты такой бледный и кислый?
У молодого человека был действительно невеселый вид.
Взгляд его глаз стал странно холодным и затуманился грустью. Доктор Петр шагал по комнате из угла в угол и нервно курил папиросу.
— Вот я велю сейчас Ягне борщ подать, так ты у меня сразу придешь в себя. Без борща, скажу я тебе, человек всегда плохо себя чувствует.
— Я не смогу есть, да и вообще… у меня мало времени.
— Мало времени?
— Да, — резко произнес доктор Петр, — я… видишь ли, отец… я должен ехать. Ничего не поделаешь… я должен ехать на эту службу в Гулль.
Пан Доминик не сказал ни слова. Не снимая шубы и шапки, он сел на стул и опустил голову. Он не смотрел, что делает сын, — он ничего не видел. Он чувствовал только, что ему душно, что ему нечем дышать. Он хотел выйти на воздух, освежиться, собраться с мыслями, но не мог двинуться с места. Молодой человек приводил в порядок бумаги и счетные книги, разбросанные на столе. Он взял в руки небольшую старую, засаленную записную книжку, обвязанную грязной тесемкой, и стал ее перелистывать.
— Отец, — произнес он с грустью и сожалением в голосе, — в этой книжке я прочел, что на мне тяготеет долг, который я должен уплатить безотлагательно.
— Оставь меня в покое, оставь меня в покое! — ответил старый Цедзина, опуская голову на руки.
— Прежде чем уехать, я должен объяснить тебе, отец, почему я решил это сделать.
— Что ты хочешь мне объяснять, глупец, что? — вскипел старик. — Поезжай, если на то твоя воля. Только, ради бога, прошу тебя, не расточай передо мною своих премудростей.
— Я хочу поговорить с тобой совершенно искренне и откровенно о деле, имеющем для меня очень важное значение. Четыре года назад ты мне прислал в разные сроки двести рублей. В следующем году тоже двести рублей. Потом двести пятьдесят и в прошлом году опять двести. Всего восемьсот пятьдесят рублей. Жалованья ты получаешь триста рублей в год. Откуда же эти деньги?..
— Милый мой сынок… не вздумай только выставить меня вором. Если ты внимательно просмотрел счета, то должен был заметить, что из денег Бияковского я не взял ни одной копейки. В книгах все записано. Что я не продавал тайком ни извести, ни кирпичей, в этом ты можешь убедиться из счетов. Наконец, я даю тебе чест ное слово… у меня на совести нет ни одной копейки Бияковского. Бог свидетель!
— Да, это совершенная правда.
— Раз ты выступаешь в роли обвинителя, ты должен кое‑что понимать в делах. Весь секрет состоит в том, что Бияковский предоставил мне право на получение дополнительного вознаграждения, правда довольно оригинального. Из выручки от продажи он ничего не хотел мне давать и на мои настойчивые требования всегда пел одну и ту же песню: «Удешевляйте производство… а что на этом сэкономите, то ваше». Он обещал рабочим сначала по тридцать копеек. Я им потом дал по двадцать, ну и, разумеется, они согласились, потому что заработать им больше негде, а тут у них верный заработок. Вот таким образом у меня и собралось немного денег для тебя.
— Да, именно это я обнаружил по счетам.
— Ив этом весь секрет, обвинитель! Вором я не был и, даст бог, не буду!
— И я не хочу им быть, отец. Поэтому я должен отдать эти восемьсот пятьдесят рублей.
— Кому ты станешь их отдавать? Я этих денег не приму… знай это… не приму. Я не мог давать тебе на содержание и ученье больше, видит бог… но сколько я мог… Я старался хоть как‑нибудь выполнить свои отцовские обязанности.
— Это не ты, отец, давал мне на ученье, и не тебе я должен возвратить этот ужасный, тяжелый долг…
Доминик Цедзина высоко поднял брови и с изумлением глядел на сына.
— Ты, Петрусь, должно быть, помешался. Что ты городишь?
Доктор Петр сел за столик, взял лист белой бумаги и медленно заговорил:
— Стоимость каждого товара по окончании производства состоит из постоянного капитала (обозначим его буквой с), переменного капитала, то есть заработной платы (положим о), и так называемой прибавочной стоимости, или прибыли, которую я обозначу буквой р. Отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, или прибыли к заработной плате, р: V, показывает норму прибавочной стоимости, или степень эксплуатации.
Подсчитаем, отец, со всей точностью приход и расход…
Только к вечеру кончился ожесточенный спор между отцом и сыном. Оба они смолкли, охваченные тем упрямым чувством, которое закрывает сердца так плотно, как крышка гроба закрывает дорогой прах.
Старик равнодушно и презрительно смотрел, как доктор Петр укладывает свой чемодан. Время от времени насмешливая улыбка скользила по его губам и глаза сверкали гневом. После долгого молчания он высокомерно и равнодушно проговорил:
— А тут ты решительно не можешь заработать, если тебе так уж хочется разводить глупые сентименты.
— Нет, отец, не могу так скоро, как мне хотелось бы. Там у меня служба и сравнительно недурное жалованье.
— Место можно и тут найти. Бияковский…
— Я не желаю иметь ничего общего с господами Бияковскими. Мне никто никогда не протежировал, меня ценили за мои знания и работу.
— Ты же писал мне, что тебе протежировал какой‑то профессор, — сухо сказал отец. — Ты сам себе противоречишь, знаменитый философ.
— Нет. Профессор назвал мою фамилию потому, что его просили кого‑нибудь порекомендовать. А учитывая мою добросовестную работу и склонность к самостоятельным исследованиям, он нашел вполне справедливым назвать меня.
— Сущий вздор! Бияковский точно так же нашел бы вполне справедливым, учитывая… и так далее…
— Никому неохота добровольно заразиться паршой… Вот и мне хорошо, покуда я чист…
Старик рассмеялся. Снова воцарилось молчание. Но вот молодой человек снял с гвоздя свое пальто и стал не спеша натягивать его.
— Так ты всерьез?.. — спросил пан Доминик.
— Да, отец.
— Ох, сынок, смотри, как бы не наказал тебя бог за это!
— Первую часть долга я надеюсь выслать в мае. В этой записной книжке я подсчитал, сколько следует каждому за четыре года. Так ты, отец, пожалуйста, добросовестно…
— Ступай прочь, дурак! — грубо крикнул пан Доминик в припадке бешеного гнева.
Руки у него тряслись, глаза горели недобрым огнем.
Доктор Петр, бледный как полотно, подошел к отцу со слезами на глазах и склонился к его ногам. Старик оттолкнул его, отошел в угол комнаты и повернулся к сыну спиной. Он слышал, как дверь тихо скрипнула и закрылась за уходящим сыном, слышал сухой лязг щеколды, но не повернул головы. Мало — помалу он погружался в состояние апатии и такого глубокого равнодушия, что оно граничило чуть ли не с чувством удовольствия.
«Хорошо, что я его назвал дураком, — подумал старик, — так ему и надо…»
Через несколько минут он выглянул в окно. На дворе не было ни души. В лучах заходящего солнца все предметы были видны особенно ясно. На стеклах мороз рисовал свои фантастические узоры, они появлялись ка глазах, затягивали стекла снизу вверх. Старик с интересом смотрел на них и думал о чем‑то далеком — далеком. На мгновение он почувствовал себя маленьким мальчиком, он сидит в прекрасном помещичьем доме, возле своей матери, доброй, милой, красивой матери, и глядит на морозный узор на окне… Ему скучно, он бы стал капризничать и плакать, если бы не эти вьющиеся побеги, эти веточки и зубчатые листочки, такие занятные, такие любопытные…
Из глубокой задумчивости его вывел далекий свист паровоза. Этот звук причинил старику такую боль, точно его ударили молотком по голове. Пан Цедзина взял шапку и вышел из комнаты.
К железнодорожной станции медленно подходил поезд, зарываясь в снежные сугробы, как бы рассекая их и железной грудью прокладывая себе путь. Пан Доминик широким шагом направился на станцию. Сумерки быстро надвигались, и по мере того как сгущалась темнота, все ярче блестели фонари на железнодорожной линии, словно добрые духи, предупреждающие о большой опасности. Когда пан Цедзина был уже на половине дороги, он заметил издали силуэт человека, шедшего со станции. Старик облегченно вздохнул в надежде, что это возвращается доктор Петр. Вскоре он поравнялся с этим человеком: это был рабочий с кирпичного завода, молодой и веселый парень.