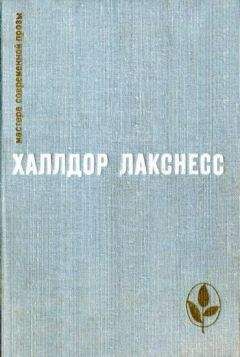— Что такое?
— Она предлагает лотерейные билеты в пользу клуба для молодежи, — сказал толстячок Бобо.
Доктор попросил показать лотерейные билеты, и я протянула ему пачку. На одной стороне билета был изображен дворец, на другой — выигрыши.
— Спасибо, — сказал он и слегка улыбнулся. И хотя он вернул все билеты обратно, мне все же приятно было увидеть, как блеснули его глаза за стеклами очков и сверкнули в улыбке белые зубы. — Запрос о постройке клуба для молодежи был внесен в альтинг и в городской муниципалитет.
— Откуда у вас эти бумажки, милочка, нельзя ли узнать? — осведомилась фру.
— Я пошла в булочную, когда на улице начались беспорядки, и там одна девушка…
Фру перебила меня:
— Я слышала, она коммунистка.
— Там был еще молодой человек, он-то и предложил мне взять несколько билетов.
— Они коммунисты, — объявила фру.
— А что это были за беспорядки? — спросил хозяин.
— Ну не такие уж большие беспорядки, — ответила я.
— Нет, большие, — заметил толстячок. — Это все коммунисты.
— Просто нашлись люди, которые не захотели, чтобы Исландия была продана. Я слышала, это студенты педагогического училища и члены Христианского союза молодежи.
Фру сказала:
— Да тут и сомневаться нечего: раз они утверждают, что это кто-то другой, значит, это они сами. Они обладают способностью подстрекать идиотов. Педагогическое училище и Христианский союз — чудесно! А почему не союз женщин и не миссионерское общество в Китае? Я советую вам, милочка, как можно скорее избавиться от этих билетов. Ваш клуб для молодежи — это помещение для коммунистической ячейки.
— Покажи-ка мне эти билеты, я хочу посмотреть их, — попросил Бобо.
Я стояла около стула старшей дочери. Вдруг она неожиданно вонзила ногти мне в колено и бросила на меня один из своих лихорадочных взглядов, а я не поняла, за она или против клуба для молодежи.
Не задумываясь, я протянула мальчику лотерейный билет.
— Все! — потребовал он.
Но прежде чем он успел их взять, поднялась унизанная браслетами и кольцами сверкающая рука и вырвала у меня билеты: то была карающая десница фру. В мгновенье ока билеты были разорваны вдоль и поперек и брошены на пол. После этого фру устремила на меня ледяной взгляд и объявила решительным тоном:
— Если вы еще раз попытаетесь вести коммунистическую агитацию в этом доме, вам придется поискать себе новое место. — И она поднесла ложку с супом ко рту.
Старший сын обычно курил между блюдами. Он вынул сигарету, нахмурил брови и опустил уголки рта, выражая этим бесконечное презрение к супу.
— Не к чему расстраиваться, мама, — проговорил он. — С фашизмом ничего не вышло. И теперь коммунизм завоюет весь мир, это всем известно. Rien à faire.[20]
Фру поерзала на стуле, посмотрела философу в лицо и сказала холодно и строго:
— Мой мальчик, тебя пора отправить в санаторий для нервнобольных.
— Разве я создал этот мир, в котором вынужден жить благодаря тебе? — бесстрастно спросил юноша, продолжая курить.
— Подожди, это не все, я хотела тебе еще кое-что сказать, дитя мое, — начала фру, и голос ее зазвучал на таких высоких нотах, что муж снова оторвался от газеты и с улыбкой дотронулся до ее руки.
Она потеряла нить своих мыслей и поверпулась к нему.
— Ты улыбаешься, у тебя, конечно, красивая улыбка, но сейчас она, к сожалению, неуместна.
— Дорогая Дулла, — умоляюще протянул он.
Я выбежала из столовой и через кухню прошла в свою комнату. Что же мне теперь делать? Может, упаковать вещи? Но когда я стала собирать свои немногочисленные пожитки, я вдруг сообразила, что мне негде даже переночевать. И куда я дену фисгармонию? Чем можно пожертвовать во имя гордости? Всем, если ты достаточно горда. И вряд ли есть что-либо более унизительное, чем позволять так обращаться с собой, — разве только стать уличной девкой.
В дверях появилась кухарка и спросила, собираюсь ли я, во имя Христа, нести жаркое.
Когда, несколько успокоившись, я снова вошла в столовую, семья покончила с супом, все изо всех сил молчали. Доктор продолжал читать газету. Я собрала со стола грязные тарелки, поставила второе блюдо и ушла. Лотерейные билеты лежали на полу, и я не подняла их.
К вечеру в доме все затихло. Старший сын куда-то исчез. Богобоязненная воспитанница кухарки занялась своими любимыми заводными куклами, перед сном ей предстояло еще читать псалмы. Бобо и Дуду вместе с детьми премьер-министра и других важных особ стояли на углу улицы и выкрикивали ругательства по адресу прохожих; они могли развлекаться так часами. Фру отправилась в гости играть в вист, который они называют бридж; в этой игре партнеры заранее рассказывают друг другу, что у них на руках.
Гнев мой постепенно угас. Я сидела за фисгармонией, стараясь подчинить своей воле грубые непослушные пальцы, не желавшие знать никакого искусства. Вдруг я заметила, что в распахнутой настежь двери появился мужчина. Сначала я подумала, что это видение. Он посмотрел на меня слегка прищуренными глазами, протер очки и улыбнулся. Меня бросило в холод, потом в жар. Я поднялась, чувствуя слабость в коленях. Глаза мои видели все, как в тумане. Клянусь, никогда раньше со мной этого не случалось.
— Я услышал музыку, — заговорил он.
— Не смейтесь…
Он спросил, у кого я учусь, я назвала имя органиста.
— Он стал органистом? — удивился доктор Буи Аурланд. — Хотя почему бы и нет? Он намного, намного превзошел нас всех, настолько, что приучил себя спать днем, чтобы не видеть этого преступного общества.
— Он разводит цветы, — сказала я.
— Это интересно. Я бы тоже хотел разводить цветы. В те времена, когда я жадно читал газеты, он читал в оригинале итальянских писателей Возрождения. Я помню, он даже хотел просматривать сообщения о военных действиях, чтобы потом, через двадцать лет, в течение двух минут прочесть все о войне в энциклопедии. Меня радует, что он разводит цветы. Вы не думаете, что мне следовало бы послать детей к нему? Может, он сумел бы сделать из них людей?
— Вы спрашиваете о таких серьезных вещах. Ведь я глупая деревенская девушка, ничего на свете не знаю, и меньше всего я знаю что-либо, касающееся вас.
— Вы стоите обеими ногами на земле, — сказал хозяин и улыбнулся. — Дайте мне вашу руку. — Он посмотрел на нее: — Большая, красивая рука.
У меня было такое чувство, словно меня поджаривают на сковородке. Все мое тело пылало от того, что он рассматривал мою руку.
Но вот он привычным жестом надел очки. Потом сунул руку в карман, вынул сто крон и протянул мне.
— За ваши лотерейные билеты.
— Они стоили пятьдесят крон, а у меня нет сдачи.
— Отдадите потом.
— Я не могу взять деньги просто так.
— Пусть это вас не смущает, ведь люди всегда стараются заплатить поменьше. Это закон природы. А я экономист.
— Тогда я возьму для вас еще десять билетов.
— Только не протягивайте их мне над тарелкой с супом, — улыбнулся он и ушел, закрыв за собой дверь.
Если судить по изображениям на почтовых открытках, можно подумать, что все гении-музыканты по меньшей мере боги. Но теперь я узнала, что величайшие композиторы мира — всего лишь жалкие парии среди людей. Добропорядочные жители Вены считали Шуберта неотесанным парнем, они были уверены, что он ничего не смыслит в музыке: он мстил им тем, что писал музыку для народа. Его «Ave Maria» знают даже наши крестьяне на Севере. Он умер от голода, не дожив и до тридцати лет. Бетховен не получил даже обычного для людей его круга образования и писал, как пишут простые крестьяне. Он оставил смешное письмо, которое считается его завещанием. Он был влюблен в нескольких графинь, взирал на них с таким же восхищением, с каким старый, заезженный мерин смотрит на грациозных скакунов. В глазах добропорядочных венцев он был только глухим чудаком, плохо одетым, неопрятным, которого нельзя допускать в приличное общество. И все же эти два отвергнутых обществом человека стояли выше всех других признанных музыкантов. Многие композиторы служили при дворах мелких, ничтожных князьков, услаждая их слух своей игрой, в то время когда те вкушали пищу. Служил при дворе и великий Иоганн Себастьян Бах, много лет потративший на борьбу с дворцовой челядью в Лейпциге. Гайдна, величайшего композитора своего времени, даже били представители рода Эстергази, которым он служил целых тридцать лет, так и не удостоившись чести сидеть с ними за одним столом. Моцарт, достигший в музыке высочайших вершин, стоял на социальной лестнице ниже болонки трусливых князей и ничтожных епископов. Он умер молодым в нужде и нищете, и за гробом его шла только собака. Господа же не провожали его в последний путь, сославшись на то, что идет дождь, — они боялись инфлюэнцы.