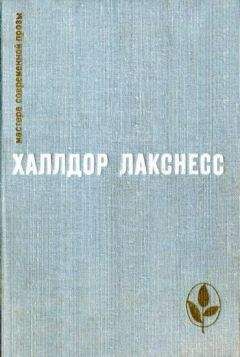Эта книга посвящается памяти Эрлендура из Унухуса, умершего 13 февраля 1947 года.
Ему я обязан очень, очень многим.
X. К. Л.
— Нести суп? — спросила я.
— Да, с богом, — ответила глуховатая кухарка, величайшая грешница нашего времени; она вешала над металлической мойкой глянцевое изображение Спасителя.
Младшая дочь хозяев дома, шестилетняя крошка Тоургуннур, которую все зовут Диди, не отходит от кухарки, смотрит на нее благоговейным взглядом, молитвенно сложив руки. Она ест вместе с ней в кухне, спит вместе с ней. Время от времени девочка бросает на меня — новую служанку — испытующий, как будто даже осуждающий взгляд.
Я набралась храбрости и понесла в столовую суповую миску. Семья еще не садилась за стол. Вошла старшая дочь, только недавно конфирмовавшаяся. Лицо у нее белое, как сливки, а рот и ногти выкрашены в черный цвет. Она ловко поправила свои густые и светлые в крутых завитках волосы.
Я сказала: «Добрый вечер». Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом, села за стол и принялась листать журнал мод.
Быстрыми шагами, распространяя вокруг себя холодноватый запах духов, вошла хозяйка дома — не слишком толстая, но довольно упитанная, красивая женщина, — на руках у нее позвякивали браслеты. Она, конечно, и не взглянула на меня, однако, садясь за стол, спросила:
— Ну как, милая, научились вы управляться с электрополотером? — Потом указала на свою дочь: — Это Дуду. А это Бобо, и еще у нас есть большой мальчик, который изучает философию, но сегодня его нет дома: он развлекается.
— Как может простая девушка с Севера запомнить все эти дикие имена? — слышу я за своей спиной.
Я оборачиваюсь и вижу высокого, стройного, красивого мужчину с уже начинающими седеть висками и орлиным носом. Он снимает роговые очки и протирает их. Непринужденно улыбается несколько усталой, отсутствующей улыбкой. Значит, это и есть мой депутат альтинга,[1] тот, за кого мы голосовали в своем избирательном округе на Севере; это у него я буду служить. Доктор наук Буи Аурланд — крупный предприниматель.
Он снова надевает очки, внимательно рассматривает меня и протягивает мне руку.
— Очень мило с вашей стороны, что вы проделали такой долгий путь и приехали сюда, на Юг, помогать нам, — говорит он.
Сердце мое забилось, меня даже в пот бросило, и, конечно, я ничего не смогла ему ответить. Он тихо произнес мое имя:
— Угла.[2] — Потом продолжал громко: — Мудрая птица, ночная птица… А как поживает мой дорогой старик Фалур из Эйстридаля, со своими лошадьми и вечной мечтой о постройке церкви? Я надеюсь, нам удастся на следующей сессии выжать из языческого альтинга немного денег, чтобы ветры могли служить в вашей долине мессы, когда она окончательно превратится в пустыню. А лошади по-прежнему будут вести свое божественное существование на воле — ведь немецким скупщикам капут.
Я была рада, что он все говорит и говорит — это дало мне время оправиться от смущения. В первый раз при разговоре с мужчиной у меня так странно дрожали колени. Я сказала, что хочу учиться музыке, чтобы потом играть на органе в нашей церкви; для этого я и приехала сюда, на Юг. Мы вовсе не хотим, чтобы наша долина превратилась в пустыню.
Я не заметила, что, пока я разговаривала с хозяином, а фру разливала суп, розовощекий толстяк Бобо смотрел на меня во все глаза, все больше и больше надувая щеки. Вдруг он громко фыркнул и захохотал. Его сестра перестала листать английский журнал мод и тоже засмеялась. Из открытой двери кухни выглянул младший ангелочек и захихикал, забыв о своей богобоязненности. Чтобы объяснить своей воспитательнице, кухарке, причину столь неожиданной веселости, ангелочек пролепетал:
— Она хочет учиться играть на органе!
Бросив взгляд на детей, фру улыбнулась, но отец, укоризненно качая головой, отмахнулся от них и пытливо посмотрел мне в лицо. Однако он ничего не сказал и принялся за суп.
Только позже, когда я привыкла к тому, что старшая дочь, садясь за рояль, бегло играет Шопена, будто это самое простое дело на свете, я поняла, почему таким смешным показалось им заявление здоровенной крестьянской девушки с Севера, которая объявляет вдруг в культурном доме, что она хочет учиться играть на органе.
— Это так похоже на вас, северян, вы всегда дерзко разговариваете с людьми, — сказала кухарка, когда я вернулась на кухню.
Я возмущенно ответила:
— Я тоже человек.
Привезли мой сундук и фисгармонию, которую я купила сегодня на свои за всю жизнь скопленные деньги. Их еще оказалось недостаточно. Моя комната находилась на чердаке, и в свободное время мне разрешили играть, но только в том случае, если не будет гостей.
В мои обязанности входило убирать дом, отправлять детей в школу, помогать кухарке, прислуживать за столом. Дом казался мне великолепнее, чем само царствие небесное на рождественской открытке, окаймленной золотой полоской, ради которого какая-нибудь кривоносая баба, мечтающая после смерти попасть в рай, готова пожертвовать всем. В этом доме все делало электричество, целый день приходилось втыкать вилки в штепсели и возиться с различными машинами; здесь не знали огня: горячие источники, бьющие из-под земли, согревали батареи,[3] а красные угли в камине были из стекла.
Когда я принесла в столовую второе блюдо, смех уже утих; молодая девушка беседовала с отцом, и никто не взглянул на меня, кроме маленького толстячка. Фру объявила, что они с мужем вечером уйдут из дому — не знаю, что она этим хотела сказать, — а кухарка Йоуна отправится на собрание.
— Весь дом остается на вас, вы подождете, пока вернется Бубу, и дадите ему чего-нибудь горячего.
— Бу… извините. А что это такое? — спросила я.
— Еще один африканец, — ответил хозяин дома, — будто из Танганьики, или из Кении, или еще какой-нибудь страны, где жители украшают волосы крысиными хвостами. Вообще-то парня зовут Арнгримур.
— Мой муж несколько старомоден. Он предпочел бы называть мальчика Гримси,[4] но в наше время нужно быть аристократичным, во всем должен быть стиль. Вот почему я и зову его Бубу.
— Вы ведь с Севера, — сказал хозяин, — из незабываемого Эйстридаля, вы дочь Фалура, лошадника, который держит лошадей на воле и который собирается строить церковь. Так будьте любезны, окрестите моих детей по-иному.
— Я предпочла бы, чтобы меня разрубили на сотню тысяч миллионов кусков, только не называли Гунса,[5] — заявила старшая дочь.
— Ее ведь зовут Гудни, — объяснил отец, — а жена прозвала ее Дуду. Так вот у нас и воцарилась Черная Африка. Все дети — бу-бу, ду-ду, бо-бо, ди-ди. На меньшее они не согласны.
Жена строго посмотрела на мужа.
— Ты всегда собираешься так разговаривать с этой девушкой? — Потом повернулась ко мне: — Будьте добры, милочка, унесите пустые тарелки.
Но я совсем ее не боялась. Даже когда вошла в ее спальню в своих грубых башмаках, неся вычищенные серебряные туфли. Она сидела полуодетая перед большим зеркалом, позади нее стояло другое зеркало. Напевая, она красила ногти на ногах. Теперь, почти без одежды, она показалась мне более толстой, но все же не рыхлой.
Я поставила туфли и собиралась уйти. Она перестала напевать и, глядя на меня в зеркало, спросила:
— Сколько вам лет?
— Двадцать один.
— Вы не получили никакого образования?
— Нет.
— И никогда раньше не уезжали из дому?
— Одну зиму я провела в школе домоводства для молодых хозяек на Севере.
Она повернулась и посмотрела на меня.
— В школе домоводства? Чему же вас там учили?
— Почти ничему.
Она снова взглянула на меня.
— В вас есть какой-то намек на образованность. Образованные девушки никогда не должны выглядеть образованными. Я не выношу женщин с ученым видом. Это — коммунизм. Посмотрите на меня: я кончила полный курс гимназии, но по мне этого не видно. Женщина должна быть женственной. Покажите-ка ваши волосы, милочка.
Я подошла к ней, и она стала разглядывать мои волосы. Я спросила, не думает ли фру, что волосы фальшивые, или, может быть, она боится, что у меня вши?
Преисполненная собственного достоинства, она откашлялась и оттолкнула меня от себя.
— Не забывайте, что вы служите в моем доме.
Я повернулась и хотела молча уйти, но ей, вероятно, стало жаль меня, и в утешение она сказала:
— У вас густые волосы, но они какие-то грязно-желтые. Вам не мешало бы мыть их чище.
— Я мыла их позавчера, перед отъездом, — ответила я. И это была сущая правда.