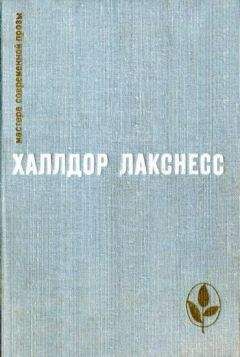— Коровьей мочой?
— Зеленым мылом.
— Я повторяю, вам следовало бы мыть их чище.
Когда я уже выходила из комнаты, она опять окликнула меня и спросила:
— Какие у вас взгляды?
— Взгляды? У меня? Никаких.
— Очень хорошо, милочка. Надеюсь, вы не из тех, кто корпит над книгами.
— Мне случалось проводить ночи над книгами.
— Боже, помилуй вас! — сказала фру и посмотрела на меня со страхом. — Что же вы читаете?
— Все, что придется.
— Все, что придется?
— В деревне читаешь все: начинаешь с саг, а потом что попадется под руку.
— Но, надеюсь, не коммунистическую газету?
— В деревне мы читаем только те газеты, которые получаем бесплатно.
— Берегитесь, как бы вам не стать коммунисткой, — сказала фру. — Я знала одну крестьянскую девушку, которая читала все, что придется, и в конце концов стала коммунисткой.
— А я хочу научиться играть на органе.
— Да, теперь я вижу, что вы действительно приехали издалека. Идите, милочка!
Нет, я совсем ее не боялась, хотя она и в родстве с членами правительства, а я только дочь старого Фалура из Эйстридаля, который хочет построить церковь для господа бога, а лошадей круглый год держит под открытым небом.
Она из фарфора, я из глины.
Кухарка объявила мне, что состояла уже во многих общинах и наконец нашла такую, где проповедуется истинное христианство. Эта религия возникла в Смоланде,[6] и шведы не жалели на нее денег. Затем она пропутешествовала через Атлантический океан и теперь именуется в честь какого-то американского города, длинного названия которого я так и не запомнила. Кухарка уговаривала меня пойти с ней на собрание. Она сказала, что, до тех пор пока не попала в эту американо-смоландскую общину, она ни разу не получала полного отпущения грехов.
— Какие же у вас грехи? — полюбопытствовала я.
— Я была ужасной грешницей. Но пастор Домселиус говорит, я могу надеяться, что года через два начну прыгать.
По американо-смоландской религии, прыгать начинают, когда становятся святыми. Но грехи, видимо, так отягощали эту и без того тяжеловесную женщину, что ей очень трудно было бы подняться в воздух… Когда я созналась, что на моей совести нет никаких грехов, она посмотрела на меня с сожалением и страхом и предложила помолиться за меня, уверяя, что это поможет, ибо бог американо-смоландской общины с ней особенно считается и делает все так, как она говорит. Ей было запрещено брать с собой на вечерние собрания маленькую воспитанницу, но перед уходом она подымала малютку с постели и заставляла ее подолгу стоять на коленях в легонькой ночной рубашке с крапинками, молитвенно сложив ручки, бормотать нудные псалмы об Иисусе, признаваться в бесчисленных грехах и заклинать Спасителя не карать ее. Дело кончалось тем, что слезы лились ручьями по щекам бедного ребенка.
К вечеру вся жизнь в доме замерла. Я осталась одна в этом новом мире, который за какой-то день превратил мою прежнюю жизнь в туманное воспоминание, я бы даже сказала — в сагу, которую я когда-то прочитала в старой книге.
Два зала — один, продолжающий другой, и третий — под прямым углом к ним, были заполнены множеством дорогих прекрасных вещей. Казалось, эти вещи попали в дом сами собой, без каких-либо усилий со стороны их владельцев, они забрели сюда, словно овцы, весной ищущие пастбища. Каждый стул в этом доме стоил дороже, чем у нас целая корова, и, даже продав всех наших овец, мы не смогли бы заплатить за стулья, которые здесь находились. Я уверена, что за ковер в большом зале дали бы больше денег, чем за весь наш двор со всеми постройками. У нас дома тоже были кое-какие вещи — продавленный диван, когда-то купленный отцом на аукционе, и картина с изображением Гримура — так мы, дети, называли старого Хадлгримура Пьетурссона,[7] — произносящего проповедь и окруженного текстами из Священного писания. И конечно, фисгармония, но она, к сожалению, теперь никуда не годилась, потому что в комнате, где она стояла, не было печи. Лошади, которые круглый год паслись без всякого присмотра, составляли все наше богатство. Почему же тот, кто работает, никогда ничего не имеет? Неужели я коммунистка, если задаю этот вопрос, как говорят, самый страшный из всех вопросов, тот, который опаснее всего задавать? Я дотрагиваюсь пальцем до клавиш рояля. Какой мир красоты в этих звуках, так гармонически сливающихся друг с другом! Если есть на свете грех, то грех — не уметь играть. А я еще сказала кухарке, что у меня нет грехов! И мало того… Прямо из передней я попадаю в кабинет хозяина. Всюду — от потолка до пола — книги. И какую я ни раскрою, я ничего не могу в ней понять. Если на свете есть преступление, то преступление — быть необразованной.
Наконец я ушла к себе, проиграла на фисгармонии две-три мелодии, какие знала еще дома, и одну, какую обычно играют те, кто не умеет играть. Мне стало стыдно, что я такая необразованная, и я взяла какую-то скучную просветительную книгу, выпущенную издательством «Мауль ог меннинг».[8] Если ее прочесть, то, наверно, можно стать образованным человеком.
Так прошел вечер. Постепенно все домочадцы начали возвращаться домой. Сначала из американо-смоландского ведомства по отпущению грехов явилась кухарка, затем один за другим вернулись дети и, наконец, хозяева. Мало-помалу дом затихает, и только тот, кого жду я и горячий ужин, все не идет. Уже три часа ночи. Я брожу по дому, чтобы не заснуть, и наконец падаю в глубокое кресло. В четыре часа раздается звонок, я бегу, на ходу протирая глаза, и открываю входную дверь. На пороге стоят два полицейских и держат безжизненное тело. Они официальным тоном произносят «добрый вечер», спрашивают, живу ли я в этом доме и нельзя ли оставить в передней небольшой труп.
— Смотря чей это труп, — заявляю я.
Они отвечают «потом разберетесь»; бросают труп на пол, козыряют, говорят «спокойной ночи» так же официально, как они только что сказали «добрый вечер», садятся в автомобиль и уезжают. Я закрываю дверь.
А мужчина, если его можно назвать мужчиной, лежит на полу. Он еще не достиг того возраста, когда юноши начинают бриться. У него голова отца, но светлые детские локоны. Его пальто и новые ботинки в грязи, щека испачкана, будто он спал в луже или валялся в блевотине. Что мне делать? Я наклонилась над ним: он дышал. Кроме запаха блевотины, от него несло еще табаком и водкой. К счастью, на деревенских праздниках мне приходилось видеть мужчин, сраженных «Черной смертью»,[9] и я знала, что нужно делать в таких случаях. Я решила оттащить его в комнату и не будить элегантных и образованных родителей, владельцев этого чудесного дома, более великолепного, чем царствие небесное. Я слегка потрясла его, но он только хрюкнул и приоткрыл глаза, ровно настолько, что стали видны белки. Я намочила в холодной воде губку и вытерла ему лицо. Он выглядел невинным добрым ребенком, ему было, пожалуй, шестнадцать, самое большее — семнадцать лет. Он лежал, раскинув руки, совсем как мертвый, и только чуть слышно дышал. Когда я попыталась поднять его, голова безжизненно запрокинулась назад. Тогда я взяла его на руки, отнесла в комнату и положила на постель. Сняла с него пальто и ботинки, расстегнула кое-где пуговицы, но не решилась совсем раздеть этого семнадцатилетнего юношу, хоть он и был все равно что мертвый. Его младший брат спал в другой постели; он даже не проснулся.
Я тоже отправилась спать.
В самом центре города за большими домами прячется маленький домик. Его не видно с улицы, и о существовании его никто не подозревает. Приезжий стал бы утверждать и даже мог поклясться, что здесь нет никакого дома. Но дом все-таки есть, деревянный домик с покатой черепичной крышей, маленький, одноэтажный, готовый развалиться от дряхлости, остаток старого Рейкевига.[10] Весь двор зарос дягилем, волчьей травой, чертополохом, завален грудами всякого мусора, и можно только догадываться, что среди высоких сорняков, зеленых и сочных, хотя стоит поздняя осень, скрывается гнилой дырявый забор. Я уже потеряла надежду найти этот дом, но в конце концов все-таки нашла.
Вначале я не заметила в доме никаких признаков жизни, но, внимательно присмотревшись, увидела полоску света, пробивавшуюся из окна. Я начала искать входную дверь и наконец обнаружила ее совсем с другой стороны, напротив каменной стены большого дома. Очевидно, давно, когда домик только был выстроен, здесь проходила улица, а теперь он стоял в глубине двора.
Я открыла дверь и вошла в темный коридор. В дверную щель проникал слабый свет. Я постучала. Через минуту дверь распахнулась и на пороге появился худой человек, о возрасте которого можно было судить лишь по седеющим волосам.