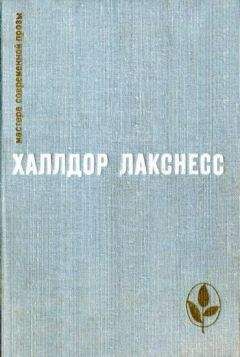Мне показалось, что он сразу все понял, как только посмотрел на меня из-под густых бровей своими чистыми, ясными глазами, добрыми и насмешливыми одновременно.
Я сняла варежку и поздоровалась.
— Пожалуйста, входите! — пригласил он.
— Это здесь? — спросила я.
— Да, здесь, — улыбнулся он, словно подсмеиваясь надо мной или, скорее, над самим собой, но все же любезно. Я помедлила немного и повторила слова газетного объявления:
— «Начальные уроки игры на органе, после десяти часов вечера».
— Игры на органе, — повторил он, рассматривая меня и продолжая улыбаться, — игры на органе жизни.
В печке горели угли: здесь не было водяного отопления, как в других домах. Комната была заставлена зелеными растениями, некоторые из них цвели. Вся мебель состояла из трехногого дивана с порванной обивкой и фисгармонии в углу. Дверь во вторую комнату приотворена, оттуда доносится запах дешевых духов; дверь в кухню открыта настежь — там стоит стол, несколько стульев без спинок и табуретки. На плите кипит вода в кофейнике. Воздух в комнате тяжелый от аромата цветов и дыма печки. На одной стене висит цветная олеография, изображающая какое-то существо, которое могло бы быть девушкой с разрубленной до плеч головой. Совершенно лысая, с закрытыми глазами, половину лица ее занимает профиль, кажется, она сама целует себя в губы; у нее одиннадцать пальцев. Я уставилась на картину.
— Вы из деревни? — спросил мужчина.
— Да.
— А почему вы хотите учиться играть на органе?
Сначала я ответила, что всегда любила слушать музыку по радио, потом, немного подумав, решила, что такой ответ мог показаться слишком общим, и добавила:
— Я собираюсь играть в нашей церкви на Севере, когда она будет выстроена.
— Разрешите посмотреть ваши руки. У вас красивые руки, но, может быть, они слишком велики для музыканта, — сказал он.
У него самого были узкие руки с длинными пальцами, мягкие и какие-то бесплотные, вялые — я даже не покраснела, когда он ощупывал мои пальцы, но и не нашла это неприятным.
— Разрешите спросить — какая же религия будет проповедоваться в вашей церкви на Севере?
— Думаю, не какая-нибудь необычная. Наверно, все та же, старая, лютеранская религия.
— Я не знаю, что может быть более необычным, чем девушка лютеранского вероисповедания, — сказал он. — До сих пор я таких не встречал. Пожалуйста, садитесь.
Я села.
— Лютер… — начала я, запинаясь, — разве он не наш…
— Не знаю, — прервал он меня. — Я встречал только одного человека, который читал Лютера: он был психологом и писал научную диссертацию о порнографии. Ведь Лютер в мировой литературе считается самым непристойным писателем. Несколько лет тому назад, когда был переведен его труд о бедняжке папе, его нигде нельзя было напечатать из соображений приличия. Могу я предложить вам кофе?
Я поблагодарила и, конечно, отказалась.
— Может быть, я и не стану играть для этого Лютера, если он так уж неприличен, а буду играть для себя самой. А эта картина?.. — спросила я, потому что не могла оторвать от нее глаз. — Что здесь изображено?
— Разве она не замечательна?
— Мне кажется, что такое я могла бы нарисовать и сама… Извините, но это человек?
Он ответил:
— Одни говорят, что это Скарпхедин[11] после того, как Топор Риммуѓигур разрубил его до плеч, другие — что это рождение Клеопатры.
Я сказала, что вряд ли это может быть Скарпхедин, потому что он был сожжен вместе с разрубившим его топором, как всем известно из саги о Ньяле, а на картине топора нет. А что это за Клеопатра? Неужели та самая царица, на которой женился Юлий Цезарь, перед тем как его убили?
— Нет, это другая Клеопатра, — улыбнулся органист, — та, которую посетил Наполеон после Ватерлоо. Когда он понял, что битва проиграна, он выругался, произнеся слово «merde»,[12] надел белые перчатки и отправился в один дом, к женщинам.
Через полуоткрытую дверь из второй комнаты послышался женский голос:
— Его словам никогда нельзя верить. — И из комнаты выплыла высокая красивая женщина, сильно накрашенная, с расширенными от беладонны зрачками, в нейлоновых чулках, в красных туфлях и в шляпе с такими большими полями, что в дверях ей пришлось пройти боком. На прощание она поцеловала органиста в ухо и, выходя, сказала мне, как бы объясняя, почему его словам никогда нельзя верить:
— Он ведь выше бога и людей… Ну, я пошла к американцам.
Органист взял тряпочку, улыбаясь, вытер красное пятно на ухе и сказал:
— Это она.
Я приняла ее сначала за его жену или, во всяком случае, невесту, но, когда он сказал «это она», я перестала что-либо понимать. Ведь мы только что говорили о женщине, к которой отправился Наполеон, убедившись, что битва при Ватерлоо проиграна.
Пока я раздумывала над всем этим, из той же двери вышла другая женщина, очень старая, без единого зуба, хромая, в бумазейной ночной рубашке. Ее седые волосы были заплетены в две косички. На разрисованной розами тарелке она несла корочку сыра и чайную ложку. Это угощение она поставила мне на колени, назвала меня своим другом, попросила чувствовать себя как дома и справилась о погоде.
Когда старушка заметила, что я не знаю, как мне быть с корочкой сыра и чайной ложкой, она с сожалением похлопала меня тыльной стороной ладони по щеке, посмотрела на меня со слезами на глазах и проговорила:
— Господи, помилуй бедняжку! — Эти полные сердечной доброты слова она повторила несколько раз.
Органист подошел к ней, с глубокой нежностью поцеловал и отвел в комнату. Потом освободил меня от тарелки, корки сыра и чайной ложки и сказал:
— Я ее сын.
Он постелил на стол в кухне скатерть, поставил чашки и блюдца, почти все разные, принес несколько черствых булочек, нарезанных маленькими ломтиками, несколько раскрошенных сухарей и сахар. По запаху я поняла, что он не поскупился заварить крепкий кофе. Но сливок на столе не было. Он предложил мне чашку с блюдцем — единственные парные. Я спросила, не ждет ли он гостей — ведь стол был накрыт на нескольких человек. Он ответил, что никого не ждет, вот только два бога обещали зайти около полуночи. Я ничего не поняла, но промолчала. Мы стали пить кофе. Он, как гостеприимная крестьянка, угощал меня черствыми булочками, но засмеялся, когда я попробовала кусочек, чтобы доставить ему удовольствие.
Мне так захотелось получше узнать этого человека, побеседовать с ним, расспросить его о многих вещах в этом мире, о других мирах, но, главное, о нем самом: кто он, почему он такой, но я не знала, как начать. А он снова заговорил:
— У меня совсем нет времени днем, но поздно вечером или рано утром я всегда буду рад вас видеть.
— Могу я спросить, что вы делаете днем?
— Мечтаю.
— Целый день?
— Я поздно встаю. Хотите послушать граммофон?
Он вышел в соседнюю комнату и стал заводить граммофон; заскрипела иголка, и раздались какие-то странные звуки. Сначала я подумала, что граммофон не в порядке, потому что слышен был только грохот, шум, визг и вопли, но, когда вернулся органист с торжествующим видом, как будто сам написал эту музыку, я догадалась, что все так и должно быть. Меня даже в пот бросило. Из-за стены неслись душераздирающие звуки, и я вдруг поняла, почему начинает выть собака, когда играют на губной гармонике. Я бы, вероятно, тоже завыла или, во всяком случае, скорчила гримасу, если бы органист с благоговейным видом не сидел по другую сторону стола.
— Ну? — остановив граммофон, спросил он.
— Не знаю, что и сказать.
— Не кажется ли вам, что вы могли бы написать такую музыку сами?
Я не стала этого отрицать.
— Возможно, если бы у меня было несколько консервных банок, пара крышек от кастрюль и кошка.
Он улыбнулся.
— Величие подлинного искусства в том и состоит, что даже тот, кто ничего не умеет, уверен, что может создать произведение искусства, если он достаточно глуп, конечно.
— А будет ли это действительно прекрасно? — спросила я. — Или у меня такая грубая душа, что я…
— Наша эпоха, наша жизнь — вот что такое красота нашего времена. Ты слушала танец огнепоклонников, — сказал органист.
В этот момент отворилась наружная дверь и началось торжественное шествие: в комнату въехала детская коляска, которую вез молодой человек — Бог номер один.
Этот воплощенный дух — высокий, стройный и, пожалуй, даже красивый — был одет в костюм из материала в елочку, галстук у него был тщательно завязан, чему никогда не могут научиться деревенские жители. Он был с непокрытой головой, и его волнистые волосы, разделенные посредине пробором, блестели и благоухали бриллиантином. Он поклонился, посмотрел на меня горящими глазами и обнажил в зловещей улыбке прекрасные зубы — наверно, с такой улыбкой убийца смотрит на свою жертву. Поставив колясочку посреди комнаты и положив в цветы какой-то плоский длинный треугольный предмет, упакованный в бумагу и обвязанный веревкой, он подошел ко мне — мне показалось, что от него пахнет рыбой, — протянул влажную руку и пробормотал что-то похожее на «Иисус Христос». А может быть, он сказал «Йене Кристинссон». Я поздоровалась, встав, как это полагается в деревне. Потом я заглянула в колясочку: там спали два всамделишных близнеца.