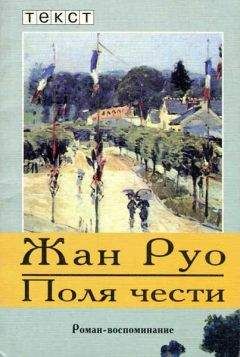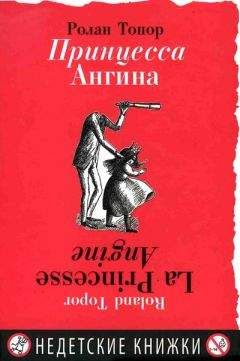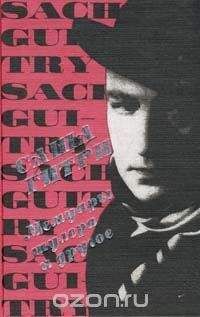В тот день наша мать подтолкнула нас в объятья друг друга. И тогда Жан, слегка приобняв меня — явно неохотно — шепнул мне на ухо:
— А чего это тебя наряжают как обезьянку?
Родители мои в ту пору только что официально оформили развод, и опека над детьми, само собой, была поручена матери.
Мои воспоминания об этом событии, могу поручиться, весьма расплывчаты. Могли ли тогда мы с братом отдавать себе отчёт, в чём наша жизнь стала как бы ущербной, не такой, как у других? Конечно, мы прекрасно чувствовали, что в жизни наших родителей произошло какое-то весьма серьёзное событие, но в сущности, положа руку на сердце — нет, тогда ещё мы полностью не осознали, какая беда свалилась на наши головы.
Не иметь возможности сказать себе, будто помнишь, что хоть раз сидел с отцом и с матерью за одним столом. Не видеть, как их головы одновременно склоняются над твоей кроваткой, когда ты болеешь. Это ужасно — но осознаёшь это только много позже.
Ибо только потом, годы спустя, понимаешь и говоришь себе: «Да, у меня были родители, я обожал их обоих — но по отдельности. А семья, то, что называют семьёй — понятия не имею, что это такое».
Я знал одного мальчика, чьи родители развелись, когда тот ещё был в колыбели. Воспитанный отцом, но дважды в неделю посещавший мать, он вырос, ничего не узнав, так ничего и не поняв, и вот не так давно мать, глядя ему в глаза, проговорила:
— Нет, просто поразительно, как ты похож на своего отца!
— Как, разве ты знакома с моим папой?! — не веря своим ушам, растроганно воскликнул мальчик.
Когда воскресными вечерами я возвращался к матери, порой она расспрашивала меня, что за людей встречал я в отцовском доме. Помню, как-то однажды стою я на коленях у постели за вечерней молитвой, а мать все засыпает и засыпает меня вопросами. Никогда не забуду курьёзного диалога, который произошёл тогда между нами.
Я: «Отче наш иже eси на небеси…»
МАТЬ: Так кто же нынче вечером ужинал у твоего отца?
Я: Один благородный дворянин, кажется, граф. «Да святится имя твое…»
МАТЬ: Граф?
Я: Да, мама. «Да прийдет царствие твое…»
МАТЬ: Дворянин... Может, Жан де Реске?
Я: Нет. «Да будет воля твоя…»
МАТЬ: Может, Жорж де Порто-Риш?
Я: Нет. «И ныне и присно…»
МАТЬ: Должно быть, де Нажак?
Я: Да нет же...
И мать перечислила мне с десяток имен, в основном из окружения отца. На всё я отвечал отрицательно.
МАТЬ: Ну а как он выглядел-то?
Я: Совсем без волос... и с такими маленькими усиками.
МАТЬ: Ах, так он вовсе никакой не граф, это Графэ!
Я: Да-да, именно Графэ! «Хлеб наш насущный…»
Несколько месяцев спустя, в октябре, меня отдали в коллеж — и на том завершилась первая глава моего жизнеописания.
Господин де Сент-Анж Ботье
Нет нужды делать вид, будто я был примерным учеником. И вот почему. Просто я не из тех, кто десять лет кряду учится в одной и той же школе — нет, вот уж чего не было, того не было... На самом деле, прежде чем достичь возраста, когда принято держать экзамен на степень бакалавра и получать аттестат зрелости, мне было суждено перепробовать по меньшей мере одиннадцать разных лицеев, коллежей, школ, пансионов и прочих учебных заведений.
(Заметьте, я не сказал «получить степень» бакалавра. Я имел в виду «достичь возраста».)
Самой, пожалуй, удивительной особенностью моей ученической эпопеи было то, что я не пошёл дальше шестого класса. Так и застрял в нём до восемнадцати лет. А причина тому проще не бывает. Дело в том, что во всех коллежах существовало правило: новичка зачисляли в тот же класс, на котором он закончил обучение в предыдущей школе. Стало быть, сменив одиннадцать коллежей, я десять раз проучился в шестом.
Так что с полным правом могу сказать: «мой шестой».
Поверьте, у меня и в мыслях нет кичиться здесь тем, что был нерадивым учеником, и всё же, думаю, не зря я завёл разговор о своём печальном опыте на этом поприще, по крайней мере, хоть воспользуюсь случаем и во всеуслышанье выскажу всё, что думаю о системе образования, которая практикуется во Франции — да и в других странах тоже.
Но для начала расскажу про свои пансионы.
В 1891 году, в шестилетнем возрасте, меня определили к господину де Сент-Анж Ботье, его заведение размещалось на улице Сен-Фердинанд, дом 15, в районе проспекта Терн.
Как воспитатель господин де Сент-Анж Ботье особыми амбициями не отличался. Он учил читать, писать, вот и всё. А потому и подопечные у него были сплошь одни малолетки.
Он носил длинную чёрную бороду и очки в золотой оправе, которые казались одной из неотъемлемых чёрт его сурового лица. Он никогда не расставался с ними целиком. Я имею в виду очки. Порой во время урока он приподнимал их и закидывал на бледный лоб, чтобы протереть глаза — эти глаза, которые казались нам совсем крошечными, как пуговки.
Потом, резко вздёрнув брови, месьё Ботье водворял очки на прежнее место — и продолжал урок.
Похоже, у него вообще не было здоровья, терпение его не имело границ, и мне в жизни не случалось встречать человека печальней и добрей милейшего господина де Сент-Анжа Ботье. Однако мы были ещё не в том возрасте, чтобы по достоинству оценить его долготерпение. А поскольку он без конца задавал нам вопросы, и вопросы эти мало отличались друг от друга, я вбил себе в голову, будто он сам ничего не знает, раз ничего в памяти не держится.
Вот, к примеру, он спрашивал:
— Сколько будет дважды два?
— Четыре! — хором отвечали мы.
А я думал: «Вот уже три дня кряду он задаёт нам один и тот же вопрос. Должно быть, опять запамятовал!»
В классной комнате была чёрная доска, она висела позади его стола. Но мы к ней не подходили. Он приберегал её для себя одного. И старательно выводил на ней мелом печатные буквы — неторопливо, медленней не придумаешь! Явно ничто не доставляло ему большего наслаждения, чем чередовать в буквах толстые чёрточки и тонкие штрихи. У нас было такое впечатление, что это единственное, что доставляет ему на свете истинную радость — и, надо отдать нам должное, мы с уважением относились к этой причуде — как уважают безобидные чудачества или молчаливые пристрастия. И наблюдали за этим священнодействием с чувством, которого вообще-то было бы трудно ожидать от таких малолеток, как мы, — однако, клянусь, в нём были терпимость и снисходительность.
У меня было впечатление, возможно, ложное, но вполне отчётливое, что к некоторым из своих питомцев он испытывал какие-то особенно нежные чувства. И эта привязанность проявлялась весьма необычным образом. Поскольку он знал, что лишится учеников, едва ему худо-бедно удастся обучить их тому малому, что знал сам, подозреваю, он намеренно не обременял любимчиков излишними трудами, дабы как можно дольше удержать их подле себя.
Зато питомцы, которые не удостаивались его благосклонности, уже через три месяца умели и читать, и писать. Я оставался у него целый год. И очень горжусь этим.
Кстати, возможно, именно по этой самой причине я всегда воспринимал как недругов всех тех, кто пытался силой заставить меня трудиться.
И даже сейчас, когда мне приходится слышать о каком-то ребёнке, будто он «очень отсталый», лично я всякий раз думаю, что, скорей всего, его просто очень сильно любят.
Однажды вечером дедушка, посадив меня на колени, сказал:
— Ну-ка посмотрим, как ты преуспел в грамоте!
Потом взял газету «Лё Фигаро» и, ткнув пальцем в название, добавил:
— Ну, читай!
— Эль... Е.. Лё... Эф... И.. Фи... Фига., эр... о... ро...
— И что же получается?
— Лё...
— А дальше что?
— Не знаю.
— Давай сначала.
Я послушно начал с начала, но без удовольствия и без всякой надежды.
— Эль, е, лё... Эф, и, Фи... гэ, а, га... эр, о, ро!
— Ну-ну... и что же получается?
— «Лё Голуа»! — пытаясь угадать, выкрикнул я.
Господин директор лицеяГод спустя, в 1892-м, я был пострижен и отдан в лицей. Мне купили все необходимые по списку личные вещи, нательное бельишко и прочие мелочи, а также положенный лицеистам форменный костюмчик.
Моя гордость от обладания всей этой новёхонькой и такой непривычной одеждой рассеялась довольно быстро. Воротничок жал, ботинки оказались слишком тяжёлыми, носовой платок чересчур большим — а сам я чувствовал себя совсем-совсем крошечным.
Кроме того, мне то и дело говорили, что я должен быть счастлив, что меня приняли в лицей пансионером, ведь это большая удача, и чересчур уж часто повторяли, что это должно пойти мне на пользу — всё это вселяло какую-то тревогу.