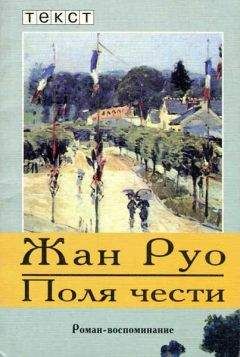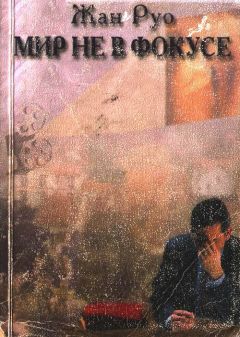Жан Руо
ПОЛЯ ЧЕСТИ
Роман-воспоминание
Пришла беда — отворяй ворота. Эта простая, печальная и старая, как мир, истина открылась нам внезапно, словно пряталась до поры, чтобы потом садануть наверняка. Она оглушила нас и придавила горем. Замкнул цепочку дед — видно, чтоб затвердили покрепче, хотя не было нужды повторять. Удивительная назойливость, будто мы и без того не усвоили. Последний удар был до такой степени излишним, что едва не остался незамеченным, — с дедом буквально так и получилось. Однажды вечером, когда ничто того не предвещало, у него отказало сердце. Понятно, возраст, но ведь казалось, что семьдесят шесть лет ему нипочем. Или, может, события последнего времени затронули его сильнее, чем мы полагали. Старик держался скрытно, отстраненно, как бы отсутствующе. В этой отрешенности, сочетавшейся с изысканностью костюма и манер, чудилось что-то китайское. И во внешности тоже: узкий разрез глаз, вздернутые островерхой пагодой брови и желтоватый цвет кожи, свидетельствовавший не столько о наличии азиатских корней (каковые если и имелись, то восходили ко временам переселения народов, что-то вроде генетического воскрешения), сколько о неумеренном курении сигарет редчайшей марки, каких, кроме как у него, никто никогда не видел — в миндально-зеленых старообразных пачках, доставляемых ему, как он сказал нам однажды, из России, правда, в другой раз он с таким же серьезным видом утверждал, будто выписывает их из Памплуны, что по ту сторону луны. После его смерти их, по всей вероятности, перестали производить. Еще бы: он один выкуривал целое табачное поле, зажигая каждую следующую сигарету от бычка предыдущей, отчего, если при этом он вел машину, его малолитражка пускалась в непреднамеренное родео. Зажав окурок указательным и большим пальцами правой руки, а новую сигарету уголком губ, он концентрировал все внимание на тлеющей красной точке, нимало не заботясь о дороге, и, тыкая бычок в сигарету, методично затягивался, пока не заструится перед ним тоненький дымок. Тогда, откинув голову назад, дабы уберечь глаза от слепящего дыма, но все равно окутанный густым облаком, которое разгонял ладонью, он локтем приподнимал стекло, быстрым движением швырял окурок за окно и, по-прежнему не глядя на дорогу, резко выворачивал руль, так что пассажиров швыряло из стороны в сторону. Видно, старость притупила в нем чувство реальности, а все пережитое укрепило ощущение собственной неуязвимости. Под конец уже мало кто отваживался ездить с ним в машине. Мальчишки-кузены, помнится, повязывали головы платками или отцовскими галстуками и, усевшись рядом с ним, испускали клич камикадзе «банзай!» (они проделывали это раза два или три — мы виделись редко). На их прощальные поклоны следовало отвечать взмахами носовых платочков и понарошку проливать слезы. Конечно, все понимали, что на таком тихоходном автомобиле риск невелик, однако постоянные пересечения желтой линии, виражи на встречной полосе, наезды на бордюр, сопровождаемые мучительной тряской, опасные сближения с другими транспортными средствами — все это приводило к тому, что люди выходили из автомобиля зеленые, словно из комнаты ужасов.
При парковке и других маневрах напрасно было предлагать деду помощь или семафорить руками. В подобных действиях всегда мало пользы — сдается, пассажир, который крутит в воздухе воображаемую баранку, просто-напросто завидует водителю, — а в случае с дедом это было как мертвому припарки. Сколько бы ему ни кричали, ни объясняли, ни стучали рукой об руку, мол, до столкновения сзади осталось всего несколько сантиметров, он лишь устало поглядывал сквозь сигаретный дым и спокойно ожидал, когда о том же самом ему возвестит бампер. От таких упражнений на кузове живого места не осталось, крылья были смяты, дверцы перекошены. А сама машина получила у нас прозвище Ушибочки. Дед если и знал об этом, то виду не подавал и переживаний не обнаруживал: похоже, что в каталоге его представлений нам было раз и навсегда отведено незавидное место «сопляков» или кого-нибудь в том же роде. А может, ему и вправду было наплевать.
Под проливным дождем, каковой на Атлантическом побережье вовсе не является отклонением от нормы, его малолитражка, сотрясаемая шквалами, натужно преодолевающая сопротивление ветра, подтекающая со всех сторон, напоминала утлое каботажное суденышко, пустившееся в плавание в шторм, вопреки метеорологическим прогнозам. Потоки дождя обрушивались на брезентовую крышу, навевая мысли о ее непрочности, прокатывались с угрожающим грохотом, отзывавшимся внутри зовом океанских бездн. Вода просачивалась в микроскопические дырочки ткани, образуя тоненькую пленку, которая постепенно набухала, провисала, дрожа все сильней, и, наконец, отделялась и падала кому-нибудь на голову, на руку или колено, а при наличии свободного места — на сиденье, где от множества ручейков образовывалась порядочная лужица, которую приходилось осушать перед очередной поездкой. Будто водяные часы над головой, что очень скоро оборачивалось настоящей пыткой, когда к удручающе размеренному капанью сверху неожиданно и некстати добавлялся косохлест сбоку. Вода пробивалась в щели плохо пригнанных дверей эдакой моросью, которая вроде бы и не оставляет следа, но со временем вымачивает пуще всякого ливня. Поначалу все стремились следовать примеру деда, среди бушующей стихии сохраняющего полнейшую невозмутимость, словно бы надеялись постичь некую тайну и вместе с ним убедиться, что «все это» (так любил говорить он сам, уклончиво и устало), в сущности, предрассудки и дождь — лишь идея дождя, отзвук вселенской иллюзии. Так оно, вероятно, и бывает в высшей точке подъема духа, когда он воспаряет, презрев материальный плен, или еще в очень комфортабельных бесшумных, герметичных автомобилях, где точно по облаку плывешь, но только не тут, потому что окрашенный ржавчиной дверей и покрывающий сиденье мелкой сыпью ситничек в конце концов одолевал вас своим упорством и после нескольких минут «мокрой йоги» грубая реальность одерживала верх: вы доставали платок, чтобы вытереть лицо. Подобные мелочи исподволь подтачивают детство, незаметно вовлекая его в процесс жизненного распада.
Как ни странно, когда проходило первоначальное раздражение, летящие по косой капли наводняли кабину весельем: подзадоренные сознанием несбыточности чуда — мол, выйдем из воды сухими, — мы затевали шуточные баталии. Капли, то резкие, колкие, а то, напротив, дряблые, выдохшиеся, угождали наобум в уголок глаза, в висок, в щеку, а то и прямо в ушную раковину, они летели по таким хитроумным траекториям, и всякий раз так неожиданно, что не отвертеться и не спастись, разве что голову в какой-нибудь мешок засунуть. Игра — зачаточная форма «морского боя» — сводилась к тому, чтобы с криком «Попал!» подпрыгнуть от удара исключительно увесистой капли, будто ты и впрямь сделался мишенью для неведомого стрелка. Единственное правило в этой игре — не лукавить, не откидываться на сиденье с притворной мукой на лице из-за пустяковой капелюшечки. Тут, понятно, возникали споры, но всегда в сдержанных выражениях. Возвышать голос не подобало: дедова малолитражка почиталась заветным местом, она служила ему не броней, как можно было бы заключить из плачевного состояния кузова, а кельей.
Дед примкнул к нам лишь однажды, когда капля лампочкой повисла на кончике его носа и он, нарушив обет молчания, глухим экономным голосом произнес: «Нос дал течь». Мы разом прекратили ссоры и насторожились, ведь взрослый посягнул на нашу территорию, но изумление быстро уступило место радости от возвращения старого блудного сына: оказывается, дедушка все время был рядом, в пространстве, досягаемом для игр, а мы-то воображали его увязшим в стародавних воспоминаниях, отделенных от нас расстоянием его возраста, — и тогда мы с облегчением и еще, возможно, для того, чтобы показать, каким тяжелым грузом лежало на нас его постоянное отсутствие, разразились дружным раскрепощенным смехом, будто бы только сейчас поняли его шутку: носовая течь стала идеальным завершением водной битвы, в которой мы, не умея положить ей конец, все обсасывали и обсасывали одно и то же нехитрое правило. Продолжение придуманной нами игры сделалось решительно невозможным, словно одно тихое восклицание деда исчерпало ее. Зато выражение «дал течь» еще долго оставалось у нас в ходу по поводу всевозможных бытовых неурядиц: убежит ли молоко, выйдет ли из строя карманный фонарик, или соскочит велосипедная цепь, остановятся часы. Оно распространялось и на взрослых: так, папа «дал течь», когда в двух километрах от поселка у него кончился бензин, — он тогда специально петлял по дороге в надежде использовать последние капли горючего и как-нибудь дотянуть до цели. Проживи он подольше, при том, сколько он разъезжал, новая идиома вполне могла бы войти в речь. И лет эдак через сто лингвистам пришлось бы проявить изрядную смекалку, чтобы установить ее происхождение.