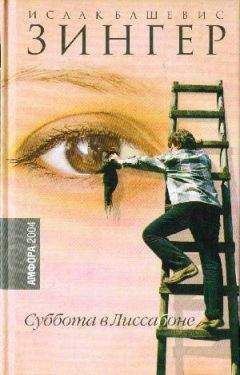Он говорил долго, даже слишком. Но и после ему задавали вопросы. «Что же, вы вовсе отрицаете случай?» — спросил кто-то. «Нет ничего случайного». — «Если так, — возразил другой, — зачем тогда работать, учиться? Зачем иметь профессию? Зачем рожать детей? Жертвовать деньги на сионизм и агитировать за еврейское государство?»
«В Книге судеб уже все записано — что и как должно быть, — отвечал Беньямин. — Если кому судьбой предназначено сначала открыть лавочку, а потом разориться, так и будет. Все усилия самому добиться чего-то, что-то изменить обречены на неудачу. Свободный выбор — только иллюзия». Дебаты продолжались за полночь, да и после все не могли успокоиться. Вот после этого и прозвали его фаталистом. Появилось новое словечко. Каждый знал теперь, что такое фаталист, — далее шамес[15] в синагоге, служка в богадельне.
Казалось бы, после этого вечера все так устали, что с радостью вернутся к обычным житейским проблемам. Да и сам Беньямин сказал, что это не такой вопрос, который можно решить с помощью логических рассуждений. Или ты веришь в это, или нет. Но как-то так вышло, что всех наших захватила эта проблема. Мы устраивали собрания: то о визах в Палестину, то об образовании, но каждый раз все сводилось к обсуждению все той же проблемы — есть предопределение или нет. Как раз в это время в нашей библиотеке появился экземпляр романа Лермонтова «Герой нашего времени» в переводе на идиш, в котором выведен фаталист. Роман этот прочли все, и были среди нас такие, кто хотел бы испытать судьбу. Мы уже знали, что такое «русская рулетка», и нашлись бы желающие сыграть, будь у них револьвер. Но револьвера ни у кого из нас не было.
А теперь послушайте-ка. Была у нас девушка. Геля Минц. Умница, красавица, активистка нашего движения, дочь состоятельных родителей. Ее отцу принадлежала самая большая бакалейная лавка в городе. От Гели у нас вся молодежь без ума. Но наша Геля была переборчива. В каждом она находила какой-нибудь недостаток. И язычок острый как бритва. Скажешь что-нибудь, а она так отбреет, только диву даешься. Кого хочешь выставит в дурацком виде. Фаталист наш влюбился в нее сразу как приехал. Ни скромности, ни застенчивости в нем ни на грош. Вот раз приходит как-то вечером и говорит ей: «Геля, знаешь, так уж судьба распорядилась, что ты за меня замуж выйдешь, так ни к чему откладывать неизбежное».
Громко так сказал, чтобы каждый слышал. Все сразу замолчали. Геля отвечает: «Судьбой предназначено, чтобы я сказала вам, что вы идиот и наглец и придется вам простить меня, потому что так уже записано в Книге судеб много миллионов лет назад».
Незадолго до того Геля была просватана за молодого парня из Грубешова, тамошнего председателя Поалей-Цион[16]. Свадьбу отложили на год, потому что у жениха была старшая сестра, которую надо было выдать замуж прежде. Наши парни стали укорять Шварца, а он и говорит: «Раз Геля должна быть моей, она моя и будет», а Геля в ответ: «Озера Рубинштейна я буду, а не твоя. Так судьба хочет».
Однажды зимним вечером вновь вспыхнули споры о предопределении. Геля и скажи вдруг: «Пан Шварц, или пан фаталист, если вы и в самом деле верите в то, что говорите, и готовы далее сыграть в русскую рулетку могу вам предложить игру похлеще».
Надо сказать еще, что тогда железная дорога не проходила через наш городок. Лишь в двух верстах от него, и поезда там не останавливались. Только проносился мимо экспресс «Варшава — Львов». Геля предложила фаталисту лечь на рельсы за несколько мгновений до того, как по ним пройдет поезд. Она так это аргументировала: «Если вам назначено жить, останетесь в живых и бояться нечего. Но если вы не верите в свой фатализм, то…»
Все расхохотались. Ясно было, что под каким-нибудь предлогом фаталист откажется. Лечь на рельсы — верная смерть. Но фаталист сказал: «Как и русская рулетка, это игра, а значит, должен быть и другой, кто тоже рискует. Если я лягу на рельсы, вы должны поклясться всем святым для вас, что разорвете помолвку с Озером Рубинштейном и выйдете за меня, коли я останусь жив».
Наступила мертвая тишина. Геля побелела как мел и говорит: «Хорошо. Я согласна на ваши условия». — «Поклянитесь». Геля дала ему руку и произнесла: «У меня нет матери. Она умерла от холеры. Но клянусь своей душой, если вы сдержите слово, я свое тоже сдержу. Если же нет, позор на мою голову. — Она обернулась и продолжала: — Вы все тут свидетели. Если нарушу слово, плюньте мне в лицо».
Буду краток. Все было решено в тот же вечер. Поезд проходит там днем, в два часа. Мы должны будем встретиться у железнодорожного полотна в половине второго, и Беньямин докажет нам, в самом деле он фаталист или же только хвастает. Все поклялись, что блюдут держать в секрете это дело. Ведь если взрослые узнают про такое, скандала не миновать.
Я всю ночь глаз не сомкнул ни на минуту, да и остальные тоже, насколько я знаю. Мы были убеждены, в большинстве своем, что фаталист передумает и вернется. Некоторые надеялись, когда покажется поезд или загудят рельсы, оттащить Шварца силой. И все равно это ужасный риск. Даже теперь дрожь берет, как вспомню.
На следующее утро мы поднялись рано. Я был в таком состоянии, что кусок в горло не лез. Ничего такого не случилось бы, если б все поголовно не начитались Лермонтова. Пришли не все. Только шесть парней и четыре девушки. В том числе и Геля Минц. Похолодало. Стоял морозец. Фаталист был в легком пальто и фуражке. Встретились у дороги на Замостье, уже за городом. Я спросил: «Шварц, как тебе спалось?» А он в ответ: «Как всегда». По нему нельзя было сказать, что он испытывает. А у Гели в лице ни кровинки, будто после тифа. Подхожу к ней и спрашиваю: «Зачем ты его посылаешь на верную смерть?» А она: «И вовсе я его не посылаю. У него было время передумать. Да и сейчас еще есть».
Сколько мне суждено жить на свете, этот день не забуду никогда. И никто из нас не сможет забыть. Мы шли, и все это время валил снег. Подошли к путям. Я подумал, может, из-за снега поезд не пойдет, но нет, пути уже расчистили. Мы пришли слишком рано, около часа надо было подождать, и, поверьте, это был, наверно, самый длинный час в моей жизни. Минут за пятнадцать до того, как пройти поезду, Геля и говорит:
«Шварц, я передумала и не хочу, чтобы вы из-за меня расставались с жизнью. Давайте забудем про все про это, и простите меня». А фаталист глядит на нее и спрашивает: «Что это вдруг? Любой ценой хочешь получить парня из Грубешова? Ха-ха-ха!» — «Нет, меня волнует не парень, а ваша жизнь. Я слыхала, у вас есть мать, и я не хочу, чтобы она из-за меня потеряла сына». Геля едва смогла выговорить эти слова. Говорит, а ее трясет. Фаталист продолжает: «Вели вы не отказываетесь от своего слова, то и я сдержу свое. Только одно условие: отойдите-ка подальше, а то еще вздумаете оттащить меня в последний момент. — И воскликнул: — Пусть каждый сделает двадцать шагов назад!» Он будто гипнотизировал нас. Мы и в самом деле попятились. Он опять закричал: «Если кто вздумает оттащить, схвачу за полу, и он разделит мою судьбу!» Все поняли, до чего это страшно. Бывает, кто-то пытается спасти утопающего, а тот хватается за спасителя и тащит его на дно.
Мы отошли, рельсы зазвенели, послышался гул, раздался гудок паровоза. Мы все, как один, взмолились: «Шварц, не делай этого! Шварц, сжалься!» Как мы ни взывали, он лег поперек рельсов. Там всего одна колея. Одна из девушек упала в обморок. Не было сомнения, что через секунду-другую мы увидим, как человека разрезало пополам. Не могу передать, что я пережил за эти мгновения. Кровь буквально закипала в жилах от возбуждения. Тут заскрежетали тормоза, раздался глухой звук, поезд остановился. Не более чем в метре от фаталиста. Будто в тумане я видел происходящее: машинист и кочегар спрыгнули с паровоза, они ругались и оттаскивали Шварца прочь. Пассажиры повысыпали из вагонов. Из нашей компании некоторые убежали, боясь ареста. Я остался стоять, где стоял, не мог двинуться с места. Геля подбежала ко мне, обвила руками и разрыдалась. Она глухо выла, как дикий зверь. Дайте-ка мне папиросу… Не могу… Простите меня.
Я достал папироску. У секретаря тряслись руки. Глубоко затянувшись, он произнес:
— Вот уж была история так история.
— Ну и вышла она за него замуж? — спросил я.
— У них четверо детей.
— Может, машинист остановился, чтобы поезд просто шел по расписанию?
— Да, но колеса были всего в метре или полуметре от него.
— Это убедило вас в фатализме?
— Нет. Я бы не пошел на такое пари за все золото мира.
— А он? До сих пор фаталист?
— Да. До сих пор.
— Мог бы он снова это сделать?
Секретарь улыбнулся:
— Мог бы. Но только теперь уже не из-за Гели.
Я никогда не знал, как его зовут. На Крохмальной просто говорили «горбун». Мне, мальчишке, и в голову не приходило, что у него есть имя. А жена? Дети? Этого я тоже не знал. Был он маленький, смуглявый, с головой, втянутой в плечи, будто шеи и вовсе нет. Высокий лоб, редкая черная бороденка, острый нос, вроде как клюв, и круглые желтые совиные глаза. Он торговал подпорченными, подгнившими фруктами у ворот на базаре Яноша. Почему гнилыми? Да потому. Те, что не начали портиться, слишком уж дороги. Богачи здесь не покупают. Их прислуга ходит за фруктами в магазины, где каждое яблоко, каждый апельсин завернуты в папиросную бумагу. Крыжовник, земляника, клубника — в специальных плетеных корзиночках, а вишни — одна к одной, как на подбор, уже без черенков, только в рот клади. В таких магазинах хозяева не хватают покупателя за рукав. Они сидят снаружи, толстый зад свисает с табурета, на боку — сумка с деньгами. Переговариваются себе, будто они и не конкуренты вовсе. А некоторые — я сам видел! — даже прикладываются время от времени к своему товару.