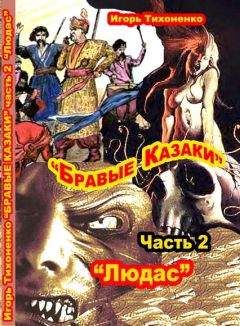— Не любишь, вот. А разве ты не слыхал на реколлекции, что любовь к выполнению обрядов — один из признаков духовного призвания?
Васарис ничего не ответил.
— Знаешь, брат, жалко мне тебя, — опять заговорил Варёкас. — Ну какой из тебя выйдет ксендз? Сколько тебе лет?
— Семнадцать, — признался Васарис.
— Ну ясно, совсем еще ребенок. И много здесь вас таких. Я слежу за вами с первых дней. И за тобой слежу. Не знаю почему, но ты мне понравился. Держишься ты всегда в стороне, никаких дел с формарием не имеешь. Исповеди твои необычайно кратки. Перед утренней молитвой в часовню не заходишь и выполняешь только самое необходимое. Нет, брат, семинария не для тебя.
Как это ни странно, Людасу приятно было мнение Варёкаса, но он не хотел сдаваться.
— Здесь и так столько обязанностей, что незачем взваливать на себя новые.
— Конечно, конечно, — согласился Варёкас, — но это характеризует первокурсников. Говорят, что первокурсники к концу года становятся самыми усердными семинаристами. Ну, довольно об этом. Ты не сердись, что я тебя экзаменую. Я думаю, что и тебе интересно поговорить на эту тему. Ведь это, брат, касается судьбы всей твоей жизни, твоего будущего. Пытался ли ты когда-нибудь представить себе, каким будешь через десять лет?
— Нет, да это и невозможно.
— Почему невозможно? Есть несколько вариантов. Начнем с первого. Ты говорил о самых необходимых обязанностях ксендза. Каковы же они? Чтение бревиария[15], исповеди, церковная служба, безбрачие, совершение таинств и работа в приходе. Представь себе, что прошло десять лет священства, ты перестал читать бревиарий, исповедуешься для проформы, после ночной попойки служишь обедню, позабыв богословие, принимаешь исповедь, преступаешь обет безбрачия и продолжаешь выполнять все обязанности ксендза. Наконец приходит момент, и ты осмеливаешься признаться себе самому, что уже не веришь во многие церковные догмы, а может быть, не веришь и в бога.
Васарису даже страшно стало. На мгновение его точно молнией озарило, но только на мгновение. Ведь то, что говорил Варёкас, было нелепо и совершенно невозможно. Он даже попытался усмехнуться.
— Ну это ты уж пересолил! Я таким ксендзом не буду, да и вообще таких ксендзов на свете нет — и быть не может!
Теперь горько улыбнулся Варёкас.
— Не стану спорить. Ближайшее будущее покажет, что прав я. Но скажи, если бы ты каким-то чудом поверил, что тебя самого ждет такая участь?
— Я бы, не медля ни одного дня, убежал из семинарии. Но у меня нет никаких оснований верить этому. Мои намерения чисты.
— Дай бог, — холодно пожелал Варёкас, — чтобы ты оказался одним из тех сомнительных двадцати пяти процентов. Однако подумай. Если я прав — уедем вместе.
Звонок положил конец их прогулке и разговору…
Через два дня Васарис застал Варёкаса в аудитории с комплектом иллюстрированного польского журнала «Колос», и тот предложил ему вместе просмотреть картинки. Перелистав несколько страниц, они увидели иллюстрацию под названием «Branka w jasyrze» — «Рабыня в неволе». На ней изображена была связанная веревками нагая молодая женщина. Несмотря на трогательное содержание картины, художник придал позе красавицы рабыни нечто соблазнительное и даже фривольное.
— Неожиданная находка! — воскликнул Варёкас. — Обычно такие рисунки вырывают из семинарских книг.
— Да, — подтвердил Людас, — я тоже видел «Тыгодник»[16] с вырезанными или заклеенными страницами.
— Как тебе нравится эта женщина? — разглядывая «Рабыню», спросил Варёкас.
Васарис никогда еще не видал подобных картин, глядеть на нее ему было интересно и стыдно, а говорить о ней еще стыдней. Однако, не желая показаться невеждой, он неуверенно пробормотал:
— Слишком тонка. Ляжки толще талии.
— Дурень! — выбранил его Варёкас. — Это и есть роскошные формы. Породистая восточная женщина с горячей кровью.
Из этого разговора Васарис почерпнул первые сведения о красоте женского тела. Но в следующую субботу на исповеди он признался духовнику, что «не уберег глаз от соблазна и любовался греховным изображением». Духовник долго объяснял ему, как опасно поддаваться искушению, и даже привел в пример царя Давида. После этого внушения авторитет Варёкаса сильно пошатнулся в глазах Васариса. «Вот что его интересует, — говорил себе Людас, — он уже в гимназии был распутным, оттого и ксендзов видит в черном свете».
Однако многие слова Варёкаса запали ему в сердце, и он уже критически присматривался к семинарской жизни и товарищам. Порой он начинал размышлять о призвании, о долге и образе жизни священника, но из-за своей робости и пассивности не решался поговорить об этом со старшими товарищами. Людас предпочитал все таить про себя, пока сомнения не затихали и не теряли остроту. А дни шли и шли, и в них была неизбежность, которую надо было принять и с которой надо было примириться.
С некоторыми однокурсниками Васарис сблизился, но по-настоящему ни с кем не подружился. Все они еще ничем не проявили себя, не ориентировались в окружающей обстановке и походили на стадо овец, пасомое формарием. Да и слишком тесная дружба — «партикуляризм» — строго воспрещалась семинарскими правилами, и задачей формария было не допускать подобных вещей. Если иные семинаристы несколько раз гуляли вдвоем, то формарий их предупреждал впредь этого не делать. На четверговых прогулках семинарскими правилами предписывалось становиться в пару с первым попавшимся, а с таким часто не о чем было говорить.
После беседы с Варёкасом Людас невольно стал критически относиться и к своим друзьям и к старшекурсникам. Ему казалось, что истинно набожных среди них было немного. На первом курсе из двадцати набралось не более четырех или пяти. Эта пропорция не увеличивалась и на старших курсах. Но и среди набожных далеко не все были так рассудительны и развиты, как их формарий. Некоторые казались либо смешными, либо очень ограниченными. Васарис знал, что внешность обманчива, что набожными были и те, кто такими не казались, но в отношении многих был уверен, что они благочестием не отличаются. И таких, по его мнению, было большинство. Странно, что этот вывод нисколько не испугал Васариса, скорее ободрил его. Подоплекой этого чувства были следующие, ему самому неясные, соображения:
«Что же? Ведь не я один такой, большинство не лучше меня. Намерения мои чисты, я искренне хочу быть достойным ксендзом, другие хотят того же, и мы будем хорошими ксендзами. Такая набожность, как у формария или у Балсялиса — исключение, особый дар божий. Достаточно добрых намерений, твердой решимости, — так и духовник говорит».
Таким образом, Людас Васарис понемногу начал осваиваться с семинарией и привыкать к ее атмосфере. Благодаря своим взглядам и поведению ему удавалось сохранить равновесие… Не хватало совсем немногого, чтобы он подался в ту или другую сторону. Но время для этого еще не пришло.
V
Прошло две недели после памятного разговора с Варёкасом. Однажды в четверг, возвратясь с длинной прогулки по шоссе, группа семинаристов собралась во второй аудитории и в ожидании звонка коротала перемену в болтовне и шутках. Внезапно распахнулась дверь, и вошел Варёкас. Все заметили, что он сильно взволнован. Говор и шутки смолкли, потому что Варёкаса многие побаивались, а тут, видимо, еще случилось нечто необычайное. Варёкас заговорил первым:
— Ну ребята, сегодня последний день моего пребывания в семинарии. Завтра уезжаю. Не хочет ли кто-нибудь купить по дешевке сутану?
Об уходе Варёкаса из семинарии знали почти все, и все-таки его слова произвели глубокое впечатление… Семинаристы заерзали на своих местах, никто не знал, что сказать.
— Не думал я, что так скоро, — первым нашелся Васарис.
— Скоро, говоришь? Надоели, братец, хуже горькой редьки все эти церемонии и комедии. Пора на свободу! А ты как? Не решился?
Товарищи изумились. Разве Васарис тоже собирается уходить из семинарии? Нет, он не таковский!
— Васариса и палкой отсюда не выгонишь, такой святоша, — заметил Петрила.
— Ему, вероятно, и во сне не снилось, что он уйдет из семинарии, — прибавил другой.
Но эти отзывы раздражали Васариса.
— Мне кажется, — сказал он, — что каждый первокурсник довольно часто думает: не уйти ли ему из семинарии…
— Только не ты! — поддразнивал Петрила. Варёкас смерил его взглядом.
— А ты кто такой? Ты что, копался в его душе или читал его мысли? Он поступит так, как захочет сам, тебя не спросит.
Резкий тон Варёкаса отбил у всех охоту к дальнейшим расспросам и разговорам.
— Ты уже был у ректора? — обратился к Варёкасу Васарис.
— Был.
— Ну и как?
— Ничего. Пожелал, чтобы я хоть стал честным человеком, если не могу стать ксендзом. А я думаю, что оттого и стану честным человеком, что не могу быть ксендзом!