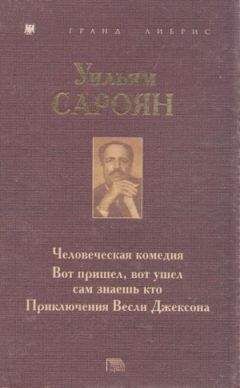На платформе было много народу, и все махали на прощание уезжающим. Вдруг раздался какой-то треск, и я пошел узнать, что случилось. Оказывается, один человек разбил кулаком окно вагона. У него из руки струей била кровь, и никто не знал, что нужно делать. Наконец кто-то сорвал с себя пиджак, потом рубашку и рубашкой обернул ему руку. Все были очень взволнованы, и всем было как-то не по себе. Поезд остановился, и тут оказалось, что мы ещё не выехали за пределы вокзала. Я поинтересовался, как все это случилось, и вот что мне рассказали.
Этот человек немножко выпил, а с ним за компанию и женщина, которая его провожала. Он стоял возле окна и смотрел на нее. Тут она вдруг заплакала, а он закричал на нее: «Не реви!», — но она никак не могла остановиться. Ну, человек рассердился и стал кричать, чтобы она перестала, но чем больше он кричал, тем сильнее она плакала. Тогда этот человек совсем взбеленился, сжал кулаки и стал ей грозить, чтобы она не ревела. Тут поезд тронулся, а он все махал кулаками и до того размахался, что угодил прямо в стекло. Прежде чем подоспела первая помощь, он потерял так много крови, что лишился сознания, и положение его было очень серьезно. Мы простояли на вокзале минут сорок пять, потом прибыла санитарная машина, пострадавшего забрали и увезли.
О распределительном пункте в Монтерее рассказывать особенно нечего, кроме того, что я все время чувствовал себя преотвратительно: ну что это за жизнь, когда людей гоняют, как стадо овец, на всякие осмотры, испытания, прививки, за получением обмундирования и снаряжения, когда приходится стоять в хвосте, чтобы поесть, постричься, вымыть руки, посидеть в уборной, принять душ. Живешь, как скот. Меня тошнило все семь дней и ночей, что я там пробыл.
Много странного произошло там за эту неделю. Видел я, как один парень каждый вечер вынимая стеклянный глаз, разглядывая его своим здоровым глазом, обмывал и приговаривал:
— Я не левша, все делаю правой рукой, а правый глаз у меня стеклянный. Ну какой, черт возьми, из меня солдат?
Я слышал, как люди кричат по ночам, видел, как они валяются на своих койках целыми днями, схода с ума от тоски. Но были там и комики, особенно итальянцы и португальцы из долины Санта-Клара.
Быта среди нас и одна знаменитость. Этот парень снимался в кино и многие ребята его узнавали, но я его припомнить не мог. Так вот, он ненавидел армию больше всех других. У него водились деньжата, он вечно резался в кости с неграми и филиппинцами и повышал ставки со второго или третьего круга. Выиграет он или проиграет, он всегда оставался самим собою, и было видно, что играет он не для денег, а просто чтобы как-нибудь отвлечься, позабыть о том, что он в армии. Он был намного старше всех нас, лет этак тридцати пяти. В разговоре он частенько поминал то одного, то другого воротилу из мира кино, неизменно добавляя: «Этот грязный мошенник и сукин сын!»
Я слышал, как он обругал одного за другим десятка два или три директоров и начальников всякого рода. Он не был киногероем, он выступал в характерных ролях и в жизни ничем не выделятся. Не скажи вам кто-нибудь, что он киноактер, вы бы ни за что не догадались. А когда ему приказали постричься наголо, как полагается по уставу, это ему уже совсем не понравилось, и он стал поносить новую большую партию голливудовцев. Начал он с кинодельцов, но тут же перешел на киногероев, потом принялся за второстепенных актеров, потом за кинорежиссеров и наконец, когда подошла его очередь стричься, добрался до киноактрис, но и этих последних обзывал не иначе, как «сукины сыны». Он припомнил всех хорошеньких женщин, которых когда-либо знал, с которыми когда-либо работай, и всех без исключения обложил. Был там в казарме один вольнонаемный парикмахер китаец, которому как раз пришлось стричь актера. Все парикмахеры там были паршивые, неумелые, не то что у нас в Сан-Франциско, но этот китаец был совсем никуда. Когда актер встал со стула, посмотрел на себя в зеркало и увидел, что китаец сделан с его головой, он до того взбеленился, что уж и не знал, кого бы еще обложить в Голливуде, и стал честить снимавшихся в кино животных, собак и лошадей.
Нескольким ребятам из Санта-Клары он платил по пятидесяти центов в день, чтобы они при встрече отдавали ему честь, а те и рады стараться. Он же, по уговору, не обязан был им отвечать,
— Офицеры обязаны отвечать на приветствие, — говорил он. — А я за свои полдоллара в день желаю, чтобы мне отдавали честь неукоснительно, но уж сам в ответ и пальцем не шевельну, сукины вы сыны.
Эти семь дней и ночей мне показались самыми долгими в моей жизни. Сплошной кошмар! Я обрадовался, когда нас погрузили в старый, разбитый автобус и отвезли в лагерь под Сакраменто. Наш путь проходил недалеко от Сан-Франциско, я думая, у меня разобьется сердце, но, к счастью, мы ехали на север, другой дорогой, через Хэйворд и Окленд, так что увидеть еще раз Сан-Франциско мне тогда не пришлось.
А когда мы с Гарри Куком летали на Аляску, самолет приземлится в городском аэропорту Сан-Франциско, и мы вышли на одну-две минуты, но города не видели, видели только его огни издали. Но уже оттого, что мы были поблизости, мы были счастливы, потому что Сан-Франциско — это родина.
Человек, с которым я проводил большую часть времени в Монтерее, был Генри Роудс, потом его назначили в одно место, а меня — в другое. Если Генри прочтет когда-нибудь эти строки, пусть он вспомнит меня. Я надеюсь, что у него все в порядке. Надеюсь, что его отпустили из армии и он вернулся к своей старой работе на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско.
Надеюсь я, что и каждый, призванный когда-нибудь в армию, нынче жив и здоров, что его уже отпустили домой и дома у него все в порядке. Я имею в виду и русских, и немцев, и итальянцев, и японцев, и англичан, и людей всех других национальностей мира. Военные и политики любят в своих речах называть мертвецов храбрыми, доблестными или как-нибудь еще в том же духе. Вероятно, я не понимаю, что такое мертвец, так как единственные мертвецы, которых я могу себе представить, это мертвецы мертвые, и называть их иначе — это значит, по-моему, хватить через край. Живых храбрецов я еще допускаю, но это все народ беспутный.
Глава тринадцатая
Рота «Б» задает вечеринку, и Доминик Тоска прощается со своим братом Виктором
Когда нам стало известно, куда каждого из нас отправляют, атмосфера в лагере омрачилась, оттого что многие из нас, успевшие сдружиться между собой, должны были теперь расстаться. Мы и так уже были разлучены со многим из того, что для нас дорого, а тут еще предстояла разлука с друзьями, которых мы приобрели в армии. Сержант Какалокович понимая, что мы переживаем, и как-то вечером сказал:
— Если вы, ребята из роты «Б», хотите перед отъездом устроить вечеринку, ладно, валяйте, только поспешите, а то как бы кто-нибудь из вас не уехал прежде, чем успеет опомниться.
Мы тут же собрали деньги, купили побольше пива и на следующий день устроили вечеринку.
Во время вечеринки подошел ко мне Доминик Тоска и сказал:
— Пригляди там за моим братишкой вместо меня, ладно?
— Разумеется, — сказал я.
— Лу Марриаччи тебя полюбил, а коли он тебя любит, значит, и я люблю, так что ты теперь приглядывай вместо меня за Виктором, потому что он мой брат. Я его сейчас приведу.
Доминик сходил за братом и говорит:
― Вот, Виктор, заруби себе на носу — это будет твой товарищ в Нью-Йорке.
Он обнял нас обоих и крепко стиснул. Мы с Виктором рассмеялись, потому что и без того были всегда хорошими товарищами.
— Детки, — сказан Доминик, — будь мы во Фриско, я бы с вами не стал и водиться. А теперь вот правительство от вас требует, чтобы вы выиграли войну.
Оттолкнул нас и пошел. Взял еще бутылку пива и выпил. Потом возвратился, погрозил Виктору пальцем и закричал:
— Эй, ты! Будь осторожен! Следи за собой. Не трусь. Пиши маме. Молись. Ходи на исповедь. Понял?
— Ладно, Доминик, перестань, — сказал Виктор.
— Слушай меня, — продолжал Доминик. — Будь хорошим мальчиком. У тебя слишком смазливая рожица для такого большого города, как Нью-Йорк. Будь осторожен. Не отходи от товарища. Ну, Весли, теперь мы не скоро увидимся. Води дружбу с братом в Нью-Йорке. Сообщи, если что случится.
Он обратился опять к Виктору.
— Ладно, — сказан он. — Прощай, детка. Только прежде спой песню.
— Какую?
— Ты знаешь. Спой своему брату еще раз напоследок.
И Виктор запел «Все зовут меня „красавчик“». Доминик слушал, и слезы выступили у него на глазах.
— Мама зовет тебя так, — сказан он.
Он совсем расстроился, безнадежно махнул рукой и принялся опять за пиво.
А тут к нам подошел Какалокович послушать.
— Почему ты не поешь вместе с ним? — сказал он мне. ― Это хорошая песня, пой. Или ты не умеешь?
Я был немного навеселе и стан подпевать Виктору. Какалокович с помощью Доминика собрал вокруг нас кучку ребятки скоро песню подхватила почти вся рота «Б». Но сколько бы народу ни пело, все равно это была, песня Виктора, и он пел ее и на этот раз лучше всех. Песня эта была как раз по нему, и он пел ее всегда одинаково — искренне и серьезно, а остальные просто забавлялись, подшучивая и над песней и над собой.