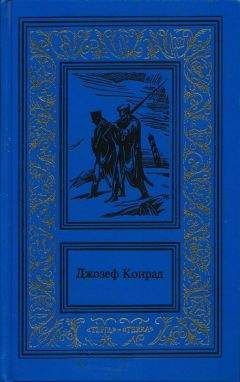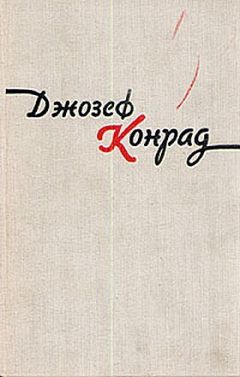— Ты теперь уже все знаешь, Васуб. Неужели в живых не осталось никого, кроме Джафира? Неужели все они погибли?
— Много лет тебе здравствовать, — отвечал Васуб, и Лингард прошептал испуганно:
— Все погибли!
Васуб дважды кивнул головой.
Его надтреснутый голос звучал скорбно.
— Истинно, истинно! Ты остался один, туан, ты остался один!
— Значит, такова была их судьба, — проговорил, наконец, Лингард с деланным спокойствием, — Но рассказал тебе Джафир, как это все произошло? Каким образом ему удалось одному спастись?
— Его господин приказал ему уходить, и он повиновался, — отвечал Васуб, потупив глаза, и тихо, полушепотом стал рассказывать все Лингарду. Лингард нагнулся вперед и, хотя и содрогаясь внутренне при каждом слове, жадно слушал Васуба. Катастрофа свалилась на голову Лингарда неожиданно, как гром с ясного неба. Вчера, рано утром, при первых лучах рассвета, за ним прислали от Белараба. Миссис Треверс сняла руку с его головы и прошептала ему на ухо: «Вставайте, за вами вдут». Он поднялся с земли. Свет был еще слабый, и в воздухе стоял туман. Понемногу он разобрал окружавшие его очертания: деревья, дома, спящих на земле людей. Он не узнавал их. Все было точно во сне. Разве можно было понять, что тут реально и что нет? Он оглядывался, точно ошеломленный. В нем все еще бродило вино забвения, которого он испил. Это она поднесла ему кубок. Он посмотрел на сидевшую на скамейке женщину. Она не двигалась Она несколько часов просидела так, даря ему грезу бесконечного покоя, беспредельного блаженства, без звуков, без движения, без мысли, без радости. Эта греза, дышавшая печалью и любовью, как бы охватывала весь мир и наполняла душу невыразимой удовлетворенностью. Прошли долгие часы, и она не двигалась.
— Вы самая щедрая из женщин, — сказал он. Он нагнулся над ней. Глаза ее были широко открыты, губы холодны. Он не удивился. Он встал и остался стоять около нее. Жара сжигает человека, но миссис Треверс, с ее холодными губами, казалась ему неразрушимой, бессмертной.
Он опять нагнулся, но на этот раз поцеловал только кайму ее шарфа. Потом он отвернулся и увидел трех человек, которые, обогнув хижину с пленниками, мерными шагами подходили к нему. Его звали в залу совета. Белараб проснулся.
Посланцы выразили удовольствие, что белый человек тоже проснулся, ибо Белараб желал сообщить ему известия величайшей важности.
Лингарду казалось, что он все время бодрствовал; он только не был уверен, жил ли он. Он не сомневался в своем существовании; но это глубокое безразличие, это странное презрение к видимому миру, это отвращение к словам, это неверие в важность людей и вещей — можно ли назвать это жизнью? Он старался найти свое прежнее «я», «я», которое действовало, говорило, слушало. Но это было слишком трудно. Его соблазнили изведать существование несравненно высшее, чем простое сознание жизни; существование, которое было так полно противоречий, радости, страха, восторга и отчаяния, что его нельзя было выносить, и от которого в то же время нельзя было уклониться. В этом существовании не было мира. Но зачем нужен мир? Лучше сдаться и с ослабевшим телом, с жутким спокойствием отдаться на волю этой огромной волны, утонуть в божественной пустоте мысли. Если это можно назвать существованием, то он существует. И он знает, что и эта вот женщина живет в той же волне, живет без слова, без движения, без тепла. Неразрушимая и, может быть, бессмертная!
VII
С возвышенным равнодушием человека, заглянувшего в открытые врата рая и уже равнодушного к жизни, Лингард последовал за посланцами Белараба. Просыпающаяся ограда оглашалась тихими голосами. Люди поднимались с земли, зажигались костры, между зданиями проходили в тумане закутанные фигуры. Сквозь циновки бамбуковой хижины доносился слабый плач ребенка. Начиналась повседневная жизнь; но в большой Зале Совета несколько восковых свечей и пара дешевых европейских ламп еще боролись с рассветом, а врывавшийся в комнату туман окружал их пламя красноватым сиянием.
Белараб не только бодрствовал, но имел такой вид, точно он не спал долгое время. Создатель Берега Убежища, усталый правитель поселка, презиравший неугомонность людей, был сердит на своего белого друга, который всегда впутывал его в свои замыслы и треволнения. Белараб никому не желал смерти, но, с другой стороны, не очень заботился и о чьей бы то ни было жизни. Самое главное для него было отдаваться на досуге своим меланхолическим колебаниям, придававшим ему обаяние таинственности и силы. Порывистость Лингарда грозила лишить его этой возможности. Неугомонный белый человек верил более чем в одного бога и сомневался в могуществе судьбы. Белараб был раздосадован, но также искренне обеспокоен, потому что он любил Лингарда. Он любил Лингарда не только за его силу, охранявшую скептическую душу вождя от опасностей, что обычно осаждают правителей, но и ради его самого. Этот безгранично колеблющийся человек, при всем его мистическом презрении к творению Аллаха, все же слепо верил в силу и смелость Лингарда. Слепо. Тем не менее, верный своему темпераменту, он боялся решительных действий, когда наступил миг испытать эту силу и это мужество.
Лингард не знал, что незадолго до рассвета один из шпионов Белараба, оставшийся в поселке, пробрался в ограду в месте, отдаленном от лагуны, и через несколько минут после того, как взвились ракеты Иоргенсона и Лингард расстался с вождем, уже рассказывал Беларабу о пленении Хассима и Иммады, о решительности ободренного этим Тенги, об овладении «Эммой» не то силой, не то путем переговоров, не то хитростью, в которой, может быть, принимали участие раджа и его сестра. Никому и ничему не доверявший и подозревавший, казалось, самого Аллаха, Белараб был очень встревожен этими новостями, ибо пиратская шайка Дамана оказывалась теперь в распоряжении Тенги. При таких обстоятельствах трудно было сказать, останется ли на его стороне и ваджский раджа. С характерной для него осторожностью, снискавшей ему в поселке прозвище «Отца Безопасности», он ничего не рассказал об этом Лингарду, боясь, как бы бешеная энергия белого вожпя не увлекла его самого и его народ и не подвергла мир и спокойствие долгих лет неверным испытаниям битвы.
Белараб принялся убеждать Лингарда выдать белых людей, которые, в сущности, принадлежали Даману, верховному вождю илланунов, дабы этим простым средством сразу отвлечь его от Тенги. В самом деле, почему он, Белараб, должен из-за них воевать с половиной поселка? Это было не нужно и неразумно. Да и, кроме того, начинать войну в общине правоверных грешное дело. А если устроить с Даманом эту сделку, к Тенге можно будет сейчас же послать гонцов с предложением мира. Тенга сразу увидит, что его предположения рушатся и что надеяться ему больше не на что. Только нужно сделать это сейчас же… А потом можно будет сговориться с Даманом насчет выкупа, и он, Белараб, будет действовать в качестве посредника, сильный, без соперников, с чистым сердцем. В крайнем случае можно будет пустить в ход силу, так что этот вождь разбойников будет вести переговоры как бы под острием меча.
Белараб говорил долго. Говорил он тихо, с важностью, с тонкими и убедительными интонациями, с грустными улыбками, как бы подкреплявшими его доводы. Больше всего его ободрял изменившийся вид его белого друга. Свирепая мощь Лингарда куда-то пропала. Лингард слушал молча, все более непроницаемый, но на его лице светилось восторженное мирное настроение, как будто сам ангел мира обвеял его своими крыльями. Заметив эту перемену, советники Белараба, сидя на своих циновках, ободрились и громко изъявили свое согласие с мнением вождя. Свет тропического дня начал просачиваться в зал сквозь густой белый туман, обволакивавший землю. Один из мудрецов поднялся с пола и осторожными пальцами начал гасить свечи, одну за другой. Он не решался прикоснуться к лампам, горевшим холодным желтым огнем. По комнате пронеслось слабое дуновение утреннего ветерка. Лингард, сидевший против Белараба в деревянном кресле, в блаженной расслабленности человека, который только что видел рай, вздрогнул.
В дверях чей-то голос громко и без всяких церемоний закричал:
— Лодки Тенги вышли в туман.
Лингард приподнялся с места, и даже и сам Белараб не мог подавить своего волнения. С минуту Лингард в нерешительности прислушивался, затем выбежал из залы. Ограда гудела, как потревоженный улей.
Выйдя из дома Белараба, Лингард замедлил шаги. Туман еще не рассеялся. Слышался гул голосов, и неясные фигуры людей двигались от центра к ограде. Где-то между зданиями ударяли в гонг. Послышался громкий голос д'Алькасера:
— В чем дело?
Лингард как раз проходил мимо дома, где помещались пленники. У веранды стояли вооруженные люди, и над их головами Лингард увидел миссис Треверс рядом с д'Алькасером. Костер, у которого Лингард провел ночь, погас, угли были рассеяны, самая скамья лежала опрокинутая. Миссис Треверс, должно быть, взбежала на веранду, как только поднялась тревога. Она и д'Алькасер словно возвышались над смятением, которое уже начало стихать. Лингард заметил шарф на лице миссис Треверс. Д'Алькасер был без шляпы. Он снова крикнул: