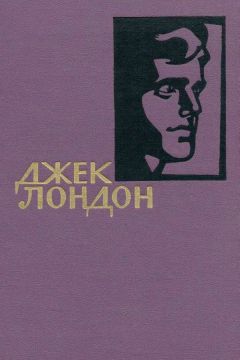Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.
— Худощав немного, — тревожно хихикнул управляющий.
— Одни кости! — последовал ответ. — А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез!
Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.
— Ну, мальчик, отвечай правду, — сказал, вернее прокричал инспектор, наклоняясь к его уху. — Сколько тебе лет?
— Четырнадцать, — солгал Джонни и солгал во всю силу своих легких. Он так громко солгал, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.
— На вид все шестнадцать, — сказал управляющий.
— Или все шестьдесят, — отрезал инспектор.
— Он всегда был такой.
— С каких пор? — быстро спросил инспектор.
— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.
— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?
— С перерывами. Но это было до введения нового закона, — поспешил добавить управляющий.
— А этот станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.
— Похоже на то. — Управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок. — Пустует, — доложил он инспектору.
Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчишка был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие. Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.
— Я знаю этого мальчика, — сказал инспектор. — Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.
Он обернулся к одноногому.
— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!
Мальчик залился слезами.
— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.
— А отчего ты так кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.
И, точно оправдываясь, одноногий ответил:
— Это ничего. Это я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.
Кончилось тем, что одноногий вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.
Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.
За ужином мать на разные лады, с бесконечными повторениями, объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался — лечь ли ему спать или выйти на улицу — и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.
Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.
Заводилой был его десятилетний брат Вилли, второй после него в семье. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Он считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него большую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.
И то, что Джонни уступал и отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом со старшего брата и даже плотнее его. Казалось, вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.
Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.
Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и несколько раз ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.
— А чего он пристает? — отвечал Джонни. — Не видит разве, что я устал?
— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью. — Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда еще как достанется!
— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой, — огрызнулся Джонни. — Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.
— Да ведь он еще мал, — запротестовала она. — Куда ему работать, такому малышу?
— Я был меньше, когда начинал.
Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.
— Не пойму я, что делается с Джонни, — слышал он. — Никогда я его таким не видала. Всегда был смирный, терпеливый, как ангелочек. Да он и сейчас хороший, — поспешила она оправдать его. — От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.
Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:
— Вот именно, не отлыниваю.
На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.
Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других младших ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущий мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, не видя дневного света, и сам становился частью механизма.
На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.