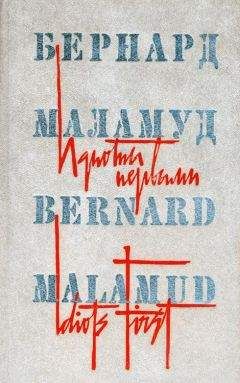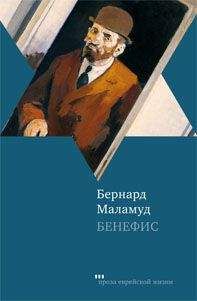— Гевалт, погром!
— Это говорящая птица, — изумилась Эди.
— По-еврейски, — заметил Мори.
— Ишь какая умная, — проворчал Коэн. — Он обглодал кость и положил в тарелку. — Раз ты говоришь, скажи, за каким ты делом. Что тебе здесь понадобилось?
— Если у вас не найдется лишней бараньей отбивной, — ответила птица, — меня устроил бы кусочек селедки с корочкой хлеба. Разве можно жить все время на одних нервах?
— Тут не ресторан, — сказал Коэн. — Я спрашиваю, что тебя привело по этому адресу?
— Окно было открыто. — Птица вздохнула и добавила — Я беженец. Я летаю, но при этом я беженец.
— Беженец от кого? — полюбопытствовала Эди.
— От антисемитов.
— От антисемитов? — сказали они хором.
— От них.
— Какие же антисемиты беспокоят птицу? — спросила Эди.
— Любые — между прочим, включая орлов, ястребов и соколов. А бывает, и кое-какие вороны охотно выклюют тебе глаз.
— А ты разве не ворона?
— Я? Я — еврей-птица.
Коэн от души рассмеялся.
— Как это понимать?
Птица начала молиться. Она читала молитвы без Книги и без талеса[82], но со страстью. Эди наклонила голову, Коэн же — нет. А Мори раскачивался в такт молитве и смотрел вверх одним широко раскрытым глазом. Когда молитва кончилась, Коэн заметил:
— Без шляпы, без филактерий[83]?
— Я старый радикал.
— А ты уверен, что ты не какой-нибудь призрак или дибук[84]?
— Не дибук, — ответила птица, — хотя с одной моей родственницей такое однажды случилось. Все это позади, слава Богу. Ее освободили от бывшего возлюбленного, ревнивого до безумия. Теперь она мать двух чудесных детей.
— Птичек? — ехидно спросил Коэн.
— А почему нет?
— И что это за птицы?
— Еврей-птицы. Как я.
Коэн откинулся на спинку и захохотал.
— Не смеши меня. О еврейской рыбе я слышал, но еврейская птица?
— Мы двоюродные. — Птица подняла одну тощую ногу, потом другую. — Будьте любезны, у вас не найдется кусочка селедки и корочки хлеба?
Эди встала из-за стола.
— Ты куда? — спросил ее Коэн.
— С тарелок сбросить.
Коэн обратился к птице:
— Я, конечно, извиняюсь, но как тебя звать?
— Зовите меня Шварц.
— Может быть, он старый еврей, превращенный в птицу, — сказала Эди, забирая тарелку.
— Это так? — спросил Коэн и закурил сигару.
— Кто знает? — ответил Шварц. — Разве Бог нам все говорит?
Мори встал на стуле.
— Какую селедку? — взволнованно спросил он у птицы.
— Мори, ты упадешь, слезь, — велел Коэн.
— Если у вас нет матьес, то можно шмальц, — сказала птица.
— У нас только маринованная, с луком, в банке, — сказала Эди.
— Если вы откроете для меня банку, я буду есть маринованную. А нет ли у вас, если не возражаете, кусочка ржаного хлеба?
У Эди, кажется, был.
— Покорми его на балконе, — велел Коэн. А птице сказал: — Поешь и отправляйся.
Шварц закрыл оба птичьих глаза.
— Я устал, а дорога дальняя.
— В какую сторону ты летишь, на юг или на север?
— Где милосердие, туда я лечу.
— Папа, пусть останется, — попросил Мори. — Ведь он только птица.
— Тогда оставайся на ночь, — согласился Коэн. — Но не дольше.
Утром Коэн приказал птице очистить помещение, но Мори стал плакать, и Шварца ненадолго оставили. У Мори еще не кончились каникулы, а товарищей не было в городе. Он скучал, и Эди была рада, что птица развлекает его.
— Он совсем не мешает, — сказала она Коэну, — и ест очень мало.
— А что ты будешь делать, когда он накакает?
— Какать он летает на дерево, и если внизу никто не проходит, то кто заметит?
— Ладно, — сказал Коэн, — но я категорически против. Предупреждаю: надолго он здесь не останется.
— Что ты имеешь против несчастной птицы?
— Несчастной птицы, нет, вы слыхали? Пронырливый мерзавец. Воображает, что он еврей.
— Не все ли равно, что он воображает?
— Еврей-птица, какая наглость. Один неверный шаг — и вылетит отсюда пулей.
По требованию Коэна Шварц был выселен на балкон, в новый скворечник, который купила Эди.
— Премного благодарен, — сказал Шварц, — хотя я предпочел бы иметь над головой человеческую крышу. Возраст, знаете ли. Люблю тепло, окна, запах кухни. С удовольствием просмотрел бы иногда «Еврейскую утреннюю газету», да и от глотка шнапса не отказался бы — после него мне легче дышится. Впрочем, что бы вы мне ни дали, вы не услышите жалоб.
Однако когда Коэн принес домой кормушку, полную сушеной кукурузы, Шварц сказал: «Невозможно».
Коэн был раздосадован.
— В чем дело, косой? Тебе надоела хорошая жизнь? Ты забыл, что такое быть перелетной птицей? Честное слово, любая из твоих знакомых ворон, евреек и неевреек, последние штаны бы с себя отдала за такое зерно.
Шварц промолчал. О чем можно говорить с таким извозчиком?
— Не для моего кишечника, — объяснил он потом Эди. — Пучит. Селедка лучше, хотя от нее жажда. Но, слава Богу, дождевая вода ничего не стоит. — Ой раскаркался грустным, одышливым смехом.
И селедку — благодаря Эди, знавшей, где надо покупать, — Шварц получал; случалось, ему перепадал кусочек картофельной оладьи и даже — когда не видел Коэн — супового мяса.
В сентябре начались занятия в школе, и Эди, не дожидаясь, когда Коэн снова предложит выгнать птицу, настояла на том, чтобы ей позволили пожить еще, пока мальчик не втянулся.
— А если сейчас прогнать, это плохо скажется на его занятиях — или ты не помнишь, как с ним было трудно в прошлом году?
— Ладно, так и быть, но рано или поздно она отсюда уберется. Это я тебе обещаю.
Шварц, хотя его никто не просил, взял на себя все заботы об учении Мори. В благодарность за гостеприимство вечером, когда его пускали часа на два в дом, он почти безотрывно надзирал за тем, как Мори делает домашние задания. Он сидел на комоде возле письменного стола, где мальчик трудился над уроками. Мори был неусидчив, и Шварц мягко заставлял его заниматься. Кроме того, он слушал его упражнения на визгливой скрипке, лишь изредка отлучаясь на несколько минут в ванную комнату, чтобы дать отдых ушам. Потом они играли в домино. К шахматам Мори относился прохладно, и обучить его игре не удавалось. Когда он болел, Шварц читал ему смешные книжки, притом что сам их не любил. А в школе дела у Мори наладились, и даже учитель музыки признал, что мальчик уже играет лучше. Его успехи Эди ставила в заслугу Шварцу, хотя птица отмахивалась от этих похвал.
Но все же Шварц гордился тем, что в табеле у Мори нет отметок ниже тройки с минусом, и по настоянию Эди отметил это рюмочкой шнапса.
— Если так пойдет и дальше, — сказал Коэн, — я отдам его в какой-нибудь знаменитый колледж.
Шварц, однако, покачал головой.
— Он хороший мальчик… вам не надо беспокоиться. Он не будет пьяницей, он не будет бить жену, Боже упаси, — но ученый из него никогда не получится. Вы понимаете меня? Но он может стать хорошим механиком. В наше время это отнюдь не позор.
— На твоем месте, — сказал рассерженный Коэн, — я бы не совал свой длинный шнобель в чужие дела.
— Гарри, прошу тебя.
— Мое терпение подходит к концу, черт возьми. Этот косой всюду лезет.
Шварц, хоть и не слишком желанный гость, все-таки прибавил в весе несколько унций. Но на внешности его это не сказалось: вид у него был, как и прежде, потрепанный, перья торчали во все стороны, словно он только что спасся от бурана. Он признавал, что уделяет мало внимания туалету. О стольком надо подумать. «Кроме того, удобства на улице», — сказал он Эди. Однако в глазах у него даже появился блеск, так что Коэн, хоть и продолжал называть его «косым», вкладывал в это слово меньше чувства.
Дорожа своим положением, Шварц тактично старался пореже попадаться на глаза Коэну. Но однажды вечером, когда Эди ушла в кино, а Мори принимал горячий душ, торговец замороженными продуктами затеял с птицей склоку.
— Черт побери, почему бы тебе иногда не помыться? Почему от тебя должно вонять, как от дохлой рыбы?
— Я извиняюсь, мистер Коэн, но если кто-то ест чеснок, от него и пахнет чесноком. Я три раза в день ем селедку. Кормите меня цветами, и я буду пахнуть цветами.
— А кто вообще тебя должен кормить? Скажи спасибо, что тебе дают селедку.
— Простите, я не жалуюсь, — сказала птица. — Вы жалуетесь.
— Кроме того, — продолжал Коэн, — даже с балкона слышно, что ты храпишь как свинья. Я из-за тебя ночи не сплю.
— Храп, слава Богу, не преступление, — возразил Шварц.
— Одним словом, ты надоеда и чертов захребетник. Скоро ты пожелаешь спать в постели с моей женой.
— Мистер Коэн, — сказал Шварц, — на этот счет не беспокойтесь. Птица есть птица.
— Это ты так говоришь, а откуда я знаю, что ты птица, а не какой-то чертов дьявол?