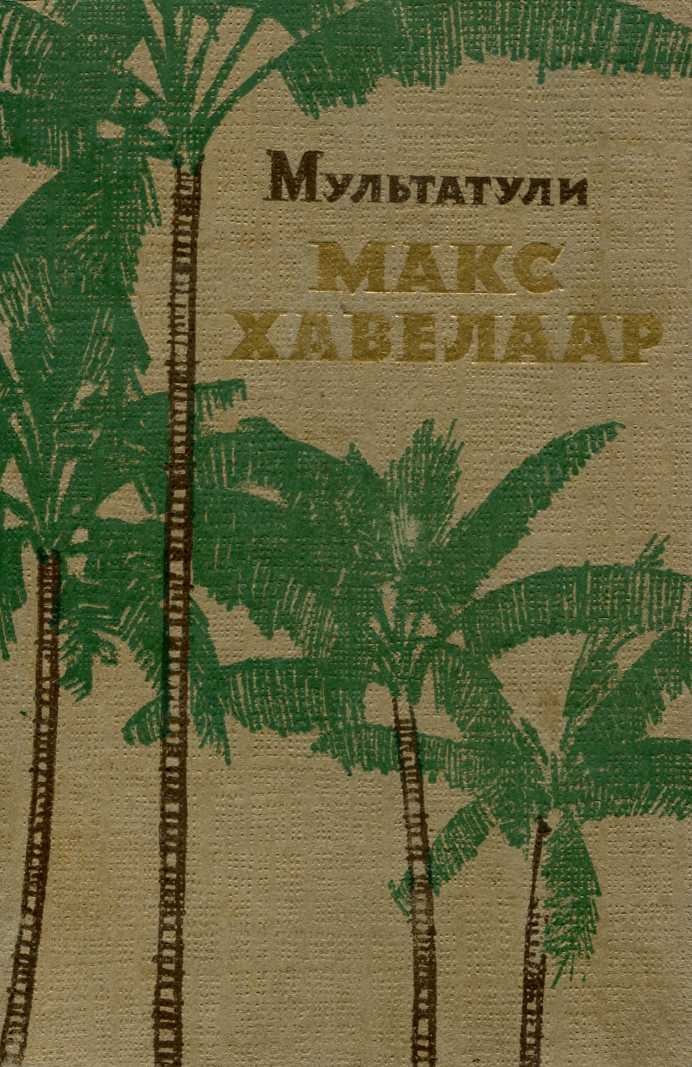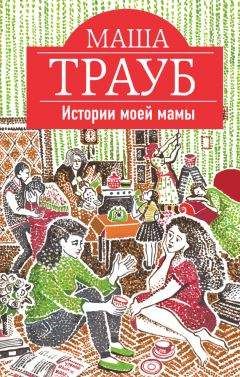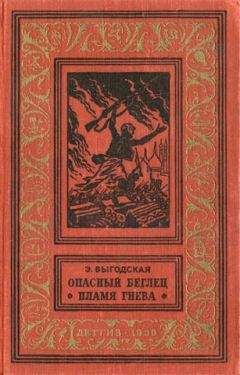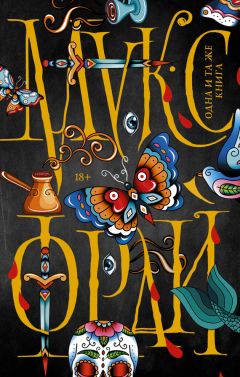в его ушах и мешавшая ему слышать новости, что рассказывали по дороге.
Наконец он увидел кетапан. Вернее, он увидел темное пятно, которое заслонило ему даже звезды. Ведь это было то место в лесу джати, где он должен встретиться с Адиндой на следующий день после восхода солнца. Он шарил в темноте и ощупывал стволы. Вскоре он нащупал знакомую неровность на южной стороне одного из деревьев и вложил палец в расщелину, которую некогда Си-Пате вырубил своим топором, чтобы заговорить понтианака [149], наславшего на его мать как раз перед рождением его брата сильную зубную боль.
Да, то было место, где он впервые взглянул на Адинду иначе, чем на ее товарок по играм, потому что здесь она впервые отказалась от участия в игре, в которую только что играла со всеми детьми — мальчиками и девочками. Здесь она дала ему цветок мелатти.
Он сел у подножия дерева и стал смотреть на звезды. Когда одна из них упала, он понял это как приветствие своему возвращению в Бадур. И он думал: спит ли теперь Адинда? Тщательно ли она делала нарезки на ступке? Он был бы огорчен, если бы она пропустила одну луну, будто ей недостаточно... тридцати шести! Вышила ли она красивые саронги и сленданги? И он спрашивал себя: кто-то живет теперь в доме его отца? Он вспоминал свое детство и свою мать; вспоминал, как буйвол спас его от тигра, и думал: что сталось бы с Адиндой, если бы буйвол был ему менее предан?
Он внимательно следил, как исчезали на западе звезды, и каждый раз, когда звезда скрывалась за краем неба, он высчитывал, насколько солнце приблизилось к своему восходу, приблизив тем самым свидание с Адиндой.
Ибо она, несомненно, придет с первым лучом. Нет, она будет здесь еще в предрассветных сумерках... Ах! почему она не пришла сюда уже вчера! Он жалел, что она не вышла ему навстречу — навстречу тому прекрасному мгновению, что три года неугасимым светом сияло в его душе; он был пристрастен в своей любви, — ему казалось, что Адинда должна была быть уже тут, и он жаловался— хоть еще и преждевременно, — что вынужден ожидать ее.
Да, его жалобы были несправедливы, ибо солнце еще не взошло и утро не бросило еще ни одного луча на равнину. Правда, звезды уже бледнели в высоте, как бы устыженные близким концом своего владычества. Правда, странные краски переливались над вершинами гор, которые казались тем темнее, чем резче они выделялись на светлом фоне неба. Правда, там и здесь облака прорезались огненными стрелами, которые проносились из-за горизонта и тут же вновь исчезали за непроницаемым занавесом, все еще скрывавшим от глаз Саиджи день.
Но понемногу становилось все светлее и светлее. Он уже видел расстилавшиеся перед ним окрестности и мог различить вершины деревьев той рощицы клапп, в которой пряталась деревня Бадур, — там спала Адинда.
Нет, она не спала. Как могла она спать? Разве она не знала, что Саиджа ждет ее? Конечно, она не спала всю ночь, и деревенский сторож стучался в ее дверь, чтобы узнать, почему не погашена пелита [150] в ее домике. И с милой улыбкой она ответила, что не спит из-за обета: она должна доткать сленданг, над которым работает и который должен быть готов к первому дню новой луны.
Или же она провела ночь в темноте, сидя на колоде для шелушения риса и дрожащими пальцами считая, действительно ли на ней сделано тридцать шесть зарубок. Забавляясь своим испугом, она в то же время думала, не ошиблась ли она в самом деле, и снова пересчитывала зарубки, еще и еще раз наслаждаясь чудесной уверенностью, что в самом деле прошло тридцать шесть лун с тех пор, как Саиджа видел ее в последний раз.
Теперь, когда становилось все светлее, она, наверно, тоже тщетно пыталась заглянуть за линию горизонта, чтобы поскорее встретить солнце, ленивое солнце, которое медлило... медлило...
Вдруг вспыхнула синевато-красная полоса, будто уцепившись за облака, и края их засветились, заалели. Как молния, снова понеслись огненные стрелы через пространство; но теперь они уже не падали, они крепко вонзались в темную почву, и их блеск растекался все более широкими кругами; они встречались, скрещивались, качались, соединялись в пучки лучей и сверкали золотыми зарницами на перламутровом фоне, — и было там серебро, и пурпур, и лазурь, и золото.... О боже, это была утренняя заря! Это было свидание с Адиндой!..
Саиджа не умел молиться, да это и не нужно было: святого пламенного восторга, которым была полна его душа, нельзя было выразить словами.
Идти в Бадур он не хотел. Самое свидание с Адиндой казалось ему менее прекрасным, чем уверенность в том, что вот-вот он ее увидит. Он сел у подножия кетапана и посмотрел вокруг. Природа улыбалась ему и, казалось, приветствовала его, как мать возвратившегося сына. И как мать выражает свою радость, вспоминая минувшую скорбь и возвращаясь к тому, что она хранила в своей, памяти во время разлуки, так наслаждался Саиджа, узнавая места, которые были свидетелями его короткой жизни. Но как ни блуждали его мысли, взгляд его все вновь возвращался к той тропинке, что вела от Бадура к кетапановому дереву. Все, что он перед собой видел, напоминало Адинду. С левой стороны, где земля такая желтая, он видел обрыв, с которого однажды свалился молодой буйвол; там собрались все жители деревни, чтобы спасти животное. «Ведь это не мелочь — потерять молодого буйвола!»
Они спустились в ущелье на крепких роттановых [151] веревках. Отец Адинды оказался самым смелым из всех, — о, как она хлопала в ладоши, маленькая Адинда!
А там, с другой стороны, где кокосовая рощица вскинулась вершинами над деревней, мальчик Си-Упа упал с дерева и расшибся насмерть. Как плакала его мать! «Си-Упа еще так мал!» — причитала она... Словно она меньше была бы опечалена, если бы Си-Упа был старше. Но он был мал, это правда, ведь он был меньше и слабее даже Адинды.
Никто не показывался на тропе, что вела от Бадура к дереву. Но Адинда сейчас придет. О, конечно, еще очень рано.
Саиджа увидел баджинга [152], который весело и проворно прыгал по ветвям клаппового дерева. Прелестный зверек—огорчение