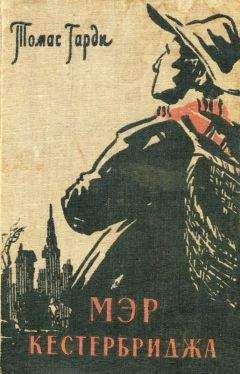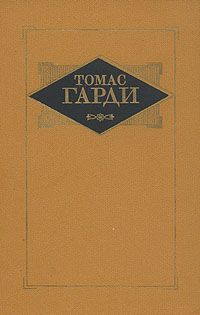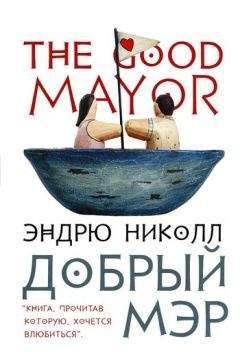— Это вы с Доналдом решайте, — негромко отозвалась Элизабет, не отрывая пристального взгляда от какого-то небольшого предмета на улице.
— Прекрасно, — продолжал Ньюсон, снова обращаясь к Фарфрэ и всем своим видом показывая, что он решил обсудить вопрос всесторонне, — так мы и сделаем. И вот еще что, мистер Фарфрэ: раз уж вы берете на себя так много — предоставляете и помещение и прочее, — я внесу свою долю в виде напитков: поставлю ром и джин… пожалуй, дюжины кувшинов хватит, ведь в числе гостей будет много дам, а они, вероятно, небольшие охотницы до выпивки, так что вряд ли стоит особенно увеличивать смету. Впрочем, вам лучше знать. Своих товарищей-моряков и вообще мужчин я угощал не раз, но я не лучше ребенка знаю, сколько стаканов грога может выпить на таких церемониях женщина, если она не пьянчужка.
— Ни одного не выпьет… спиртного нам понадобится немного… очень немного! — сказал Фарфрэ, покачивая головой с несколько удивленным и в то же время серьезным видом. — Предоставьте все это мне.
Поговорив еще немного на эту тему, Ньюсон откинулся в кресле и, глядя в потолок, сказал с задумчивой улыбкой:
— Я вам не рассказывал, мистер Фарфрэ, как Хенчард сбил меня со следа в тот раз?
Фарфрэ ответил, что ему не ясно, на что намекает капитан.
— Ага, я так и думал, что не рассказывал. Помнится, я решил пощадить его доброе имя. Но раз уж он теперь ушел, я могу сказать вам все. Так вот, я приезжал в Кестербридж месяцев за девять-десять до того, как приехал сюда на прошлой неделе и познакомился с вами. Я был тут дважды. В первый раз я был в городе проездом на запад и не знал, что Элизабет живет здесь. Затем, услышав где-то — забыл, где именно, — что некий Хенчард был здесь мэром, я снова приехал сюда и утром зашел к нему. Вот шутник! Он сказал, что Элизабет-Джейн умерла много лет назад.
Элизабет теперь стала внимательно прислушиваться к его рассказу.
— Но мне и в голову не пришло, что этот субъект меня морочит, — продолжал Ньюсон. — И вы не поверите, я так расстроился, что пошел обратно, сел в ту самую почтовую карету, в которой приехал, и отправился дальше, не пробыв в городе и получаса. Ха-ха!.. Неплохая была шутка, и он хорошо ее разыграл, надо отдать ему должное!
Элизабет-Джейн была поражена.
— Шутка?! О нет! — воскликнула она. — Значит, он все эти месяцы держал меня вдали от тебя, тогда как ты мог бы жить здесь, отец!
Отец подтвердил, что так оно и было.
— Нехорошо он поступил! — сказал Фарфрэ.
Элизабет вздохнула.
— Я сказала, что никогда не забуду его. Но нет! Мне кажется, я теперь обязана его забыть!
Ньюсон, как и многие скитальцы, толкавшиеся среди чужестранцев и знакомые с чуждой нам этикой, не мог понять, почему преступление Хенчарда так велико, хотя сам же пострадал от него больше всех. Заметив, что отсутствующего преступника атакуют не на шутку, он стал на сторону Хенчарда.
— Ну, в сущности, он ведь не сказал и десяти слов, — пытался оправдать его Ньюсон. — И мог ли он знать, что я такой простак и поверю ему на слово? Он был виноват не больше меня, бедняга!
— Нет! — твердо проговорила Элизабет-Джейн, уже пережившая внутренний переворот. — Он угадал, какой ты… ты всегда был чересчур доверчив, отец, — мама это сто раз повторяла, — и он так поступил, желая сделать тебе зло. После того как он целых пять лет держал меня вдали от тебя, утверждая, что он мой отец, он не должен был так поступать.
Вот так они беседовали, и некому было разубедить Элизабет и хоть в какой-то мере умалить вину отсутствующего. Впрочем, будь Хенчард здесь, он и сам вряд ли стал бы оправдываться, — так мало он ценил себя и свое доброе имя.
— Ну, ну… ничего… все это прошло и кончено, — сказал Ньюсон добродушно. — Поговорим лучше насчет свадьбы.
Между тем, человек, о котором они говорили, продолжал свой одинокий путь на восток, пока его не одолела усталость; тогда он стал искать, где бы отдохнуть. Сердце его было так истерзано расставанием с Элизабет, что он и думать не мог о ночлеге в деревенской гостинице или даже в самом бедном доме, а потому свернул на поле и лег под скирдой пшеницы. Голода он не испытывал, а тяжесть, навалившаяся на его душу, помогла ему заснуть глубоким сном.
Наутро лучи яркого осеннего солнца, проникавшие сквозь жнивье, разбудили его рано. Он открыл корзинку и позавтракал взятыми из дому припасами на ужин, потом переложил свои пожитки. Он вынужден был нести на собственной спине все, что взял с собой, и тем не менее запрятал среди своих инструментов кое-что из принадлежащих Элизабет-Джейн, но уже ненужных ей вещей: перчатки, туфли, исписанный ею листок бумаги и другие мелочи, а в кармане у него лежал локон ее волос. Он осмотрел все это, уложил на прежнее место и пошел дальше.
Пять дней подряд соломенная корзинка Хенчарда путешествовала на его плечах по большой дороге между живыми изгородями, причем яркий желтый цвет ее иногда привлекал внимание какого-нибудь пахаря, и тот, выглянув из-за кустарника, смотрел на шляпу и голову путника и на его опущенное лицо, по которому тени сучьев двигались бесконечной вереницей. Вскоре стало ясно, что путник направляется в Уэйдон-Прайорс, куда он и пришел под вечер на шестой день.
Прославленный холм, на котором столько поколений ежегодно устраивало ярмарки, теперь опустел: на нем не видно было ни людей, ни вообще чего-либо примечательного. Несколько овец паслось поблизости, но они разбежались, как только Хенчард остановился на вершине.
Он опустил корзинку на траву и оглянулся кругом со скорбным любопытством; вскоре он узнал дорогу, по которой двадцать с лишним лет назад поднимался с женой на эту возвышенность, столь памятную для них обоих.
— Да, мы поднялись с этой стороны, — решил он, осмотревшись. — Она несла ребенка, а я читал листок с балладой. Мы перешли по лугу где-то здесь… она была такая грустная и усталая, а я почти совсем не говорил с нею из-за своей проклятой гордости и досады на свою бедность. И вот мы увидели палатку, кажется, она стояла в этой стороне… — Он перешел на другое место; на самом деле палатка стояла не здесь, но ему казалось, что здесь. — Вот тут мы вошли внутрь, тут уселись. Я сидел лицом туда. Потом я напился и совершил свое преступление. Кажется, она стояла вот на этом самом «кольце фей»[32], когда в последний раз обратилась ко мне перед тем, как уйти с ним; ее слова и сейчас звенят у меня в ушах, и ее рыдания тоже. «О Майкл! Столько времени я с тобой жила, и ничего от тебя не видела, кроме попреков. Теперь я больше не твоя… попытаю счастья с другим».
Он испытывал не только горечь того, кто, оглядываясь на свое честолюбивое прошлое, видит, что принесенные им в жертву чувства стоили не меньше приобретенных им материальных благ; он испытывал еще большую горечь при мысли о том, что его отречение ничего ему не дало. Во всем этом он раскаялся уже давно, но его попытки заменить честолюбие любовью потерпели такой же крах, как и его честолюбивые замыслы. Его оскорбленная жена свела на нет эти попытки, обманув его с такой великолепной наивностью, что ее обман казался чем-то почти добродетельным. Как странно, что все эти нарушения законов общества породили такой цветок природы, как Элизабет-Джейн. Желание Хенчарда умыть руки — отказаться от жизни — отчасти объяснялось тем, что он понял всю ее противоречивую непоследовательность, — бездумную готовность природы поддерживать еретические социальные принципы.
Приход его сюда был актом покаяния, и отсюда он решил уйти далеко, в другую часть страны. Но он не мог не думать об Элизабет и о тех краях, где она живет. Поэтому центробежной силе его утомления жизнью противодействовала центростремительная сила его любви к падчерице. В результате он не пошел прямым путем — все дальше и дальше от Кестербриджа, — но постепенно, почти бессознательно уклонялся от избранного направления, и путь его, как путь канадского лесного жителя, мало-помалу пошел по окружности, центром которой был Кестербридж. Поднимаясь на какой-нибудь холм, Хенчард ориентировался, как мог, по солнцу, луне и звездам, пытаясь уяснить, в какой стороне находятся Кестербридж и Элизабет-Джейн. Он насмехался над собой за свою слабость, но тем не менее каждый час, пожалуй даже каждые несколько минут, старался представить себе, что она сейчас делает, как она сидит и встает, как она уходит из дому и возвращается, пока мысль о враждебном ему влиянии Ньюсона и Фарфрэ не уничтожала в нем образа девушки, подобно тому как порыв холодного ветра уничтожает отражение в воде. И он тогда говорил себе:
«Дурак ты, дурак! И все это из-за дочери, которая тебе вовсе не дочь!»
Наконец он нашел работу по себе, так как осенью на вязальщиков сена был спрос. Он поступил на скотоводческую ферму близ старой западной большой дороги, которая соединяла новые деловые центры с глухими поселками Уэссекса. Он хотел поселиться по соседству с большой дорогой, полагая, что здесь, в пятидесяти милях от той, которая была ему так мила, он будет ближе к ней, чем в месте, наполовину менее отдаленном от Кестербриджа, но расположенном не у дороги.