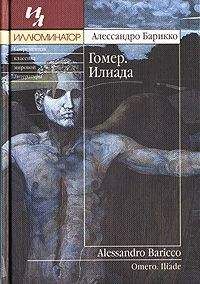В это мгновение прибежала совсем запыхавшаяся Слипслоп и с чрезвычайным жаром воскликнула:
– О сударыня, я узнала поразительную новость! Лакей Том только что пришел от «Джорджа», где будто бы обедал со своей компанией Джозеф; и Том говорит, там появился какой-то чужой человек, который открыл, что Фанни и Джозеф – брат и сестра.
– Как, Слипслоп! – кричит в изумлении леди.
– Я не успела, сударыня, расспросить о подробностях, – кричит Слипслоп, – но Том говорит, что это истинная правда.
Неожиданная весть начисто стерла все те замечательные размышления, которые за минуту до того породила высшая власть рассудка. Иными словами, когда отчаянье, которым, в сущности, и вызвано было решение о ненависти, начало отступать, леди с минуту колебалась и затем, позабыв весь смысл недавнего своего монолога, опять отпустила домоправительницу с приказанием вызвать Тома в гостиную, куда леди и сама поспешила теперь, чтобы сообщить новость Памеле. Памела сказала, что не может этому поверить: она никогда не слышала, чтобы родители ее потеряли дочь или чтоб у них вообще когда-либо был еще ребенок, кроме нее и Джозефа. Леди сильно вознегодовала на племянницу и заговорила о выскочках и непризнавании родства с теми, кто еще так недавно стоял с нею на одном уровне. Памела не отвечала, но муж ее, взяв ее сторону, сурово упрекнул свою тетку за такое обращение с его женой; он сказал, что, если бы не поздний час, Памела сию же минуту покинула бы ее дом; что если б можно было доказать, что эта молодая женщина действительно ей сестра, то жена его, без сомнения, охотно раскрыла бы ей свои объятия и он сам поступил бы так же. Потом он попросил, чтобы послали за тем человеком и за молодой особой; и леди Буби тотчас отдала соответственное распоряжение, а затем почла нужным принести извинения Памеле, которые та охотно приняла, – и все улеглось.
Явился коробейник, а также Фанни и, конечно, Джозеф, не пожелавший оставить ее; за ними следовал и пастор, движимый не одним лишь любопытством, которым был он наделен в немалой мере, но и чувством долга, как он полагал: ибо он всю дорогу непрестанно призывал Фанни и Джозефа, бурно предававшихся печали, вознести благодарственные молитвы и радоваться столь чудесному избавлению от страшного греха.
Когда они прибыли в Буби-холл, их тотчас позвали в гостиную, где коробейник повторил ту же историю, какую рассказал он перед тем в харчевне, настаивая на правильности каждого обстоятельства; так что все, кто слушал, вполне признали истину его слов, кроме Памелы, которая воображала, что если она никогда не слышала от родителей упоминания о таком несчастии, то сообщение это, несомненно, ложно; кроме леди Буби, которая заподозрила здесь ложь, потому что пламенно надеялась, что все окажется правдой; и кроме Джозефа, который опасался, что история правдива, потому что всем сердцем желал, чтобы она оказалась ложной.
Мистер Буби предложил им всем умерить свое любопытство и подождать с окончательным решением – поверить или не поверить – до следующего утра, когда прибудут мистер Эндрус с женой, которых он рассчитывал с Памелой вместе отвезти к себе домой в своей карете; тогда можно будет с полной уверенностью убедиться в истинности или ложности рассказа, – к которому, добавил он, многие веские обстоятельства побуждают отнестись с доверием, тем более что сам он, мистер Буби, не видит, какой выгоды ради стал бы коробейник выдумывать свою историю или пытаться сочинить про них такую ложь.
Леди Буби, не привыкшая к такому обществу, с большим радушием принимала за своим столом их всех – то есть своего племянника, его супругу, ее брата и сестру, франта и пастора. Что касается коробейника, то его она велела слугам принять как можно лучше на кухне. Все общество в гостиной, за исключением разочарованных любовников, которые сидели скучные и молчаливые, пребывало в самом веселом расположении духа; мистер Буби уломал Джозефа принести мистеру Дидапперу извинения, которыми тот счел себя вполне удовлетворенным. Франт и пастор подпускали друг другу шпильки – все больше насчет одежды, и это сильно забавляло остальных. Памела корила своего брата Джозефа за то, что его так огорчает неожиданное появление у них новой сестры. Если, сказала она, он любит Фанни так, как должно, чистой любовью, то у него нет оснований сетовать на свое родство с нею. Адамс тогда начал речь о платонической любви, от которой сделал быстрый переход к радостям в загробной жизни и заключил настойчивым уверением, что не существует такой вещи, как наслаждение в жизни земной. При этих его словах Памела и ее супруг с улыбкой переглянулись.
Когда эта счастливая пара предложила удалиться на покой (из прочих никто не высказывал ни малейшего желания отойти ко сну), гости разошлись по разным комнатам, где для всех приготовлены были постели; даже и Адамса не отпустили домой, так как к ночи началась гроза. Фанни, правда, долго просила, чтобы ей разрешили пойти с пастором к нему ночевать, но ее так настойчиво уговаривали остаться, что, по совету Джозефа, она наконец согласилась.
Глава XIV,
содержащая ряд любопытных ночных приключений, в которых мистер Адамс был не раз на волосок от гибели – частью из-за своей доброты, частью же из-за рассеянности
Через час после того, как все они разошлись (а было это в четвертом часу утра), прельстительный Дидаппер, которому страсть его к Фанни не давала смежить веки, направляя всю фантазию его на измышление способа утолить его желания, в конце концов изыскал средство, сулившее успех. Он заранее приказал слуге разузнать, где спит Фанни, и тот доставил ему нужные сведения; и вот он встал, надел штаны и халат и прокрался тихонько на галерею, которая вела к ее комнате; подобравшись, как он вообразил, к ее двери, он отворил ее по возможности бесшумно и вошел в комнату. Ноздри его наполнил запах, какого он не ожидал в комнате такого нежного и юного создания и который, быть может, произвел бы неприятное воздействие на менее пылкого любовника. Дидаппер, однако, нащупал не без труда кровать (в комнате не было ни проблеска света) и, приоткрыв полог, зашептал голосом Джозефа (ибо франт превосходно умел передразнивать чужую речь):
– Фанни, мой ангел, я пришел сообщить тебе, что история, которую мы слышали вечером, оказалась, как я выяснил, ложной. Я больше не брат твой, а твой возлюбленный; и я не хочу откладывать ни на минуту свое блаженство с тобою. Ты довольно знаешь мое постоянство и можешь не сомневаться, что я на тебе женюсь; если ты любишь меня достаточно, ты мне не откажешь в обладании твоими чарами.
Говоря таким образом, он освободился от тех немногих одежд, какие были на нем, и, прыгнув в кровать, восторженно обнял своего, как думал он, ангела. Если он был удивлен, не получая ответа на свои слова, то теперь его приятно поразило, что на объятия его отвечают с равным пылом. Но недолго пребывал он в этом сладостном смущении, ибо и он и его дама тотчас открыли свою ошибку: та, кого он заключил в объятия, была не кто иная, как прелестнейшая миссис Слипслоп; но хотя она-то сразу узнала мужчину, которого приняла было за Джозефа, он никак не мог сообразить, кто оказался на месте Фанни. Он так мало видел или так мало замечал эту почтенную даму, что даже и свет не помог бы ему это разгадать. Обнаружив свою ошибку, франт Дидаппер попытался выскочить из кровати еще поспешней, чем прыгнул в нее. Но бдительная Слипслоп помешала ему, ибо эта рассудительная женщина, не получив утех, обещанных воображением ее сладострастию, решила принести немедленную жертву своему целомудрию. Она, сказать по правде, ловила случай залечить кое-какие раны, которые, как она опасалась, ее поведение могло за последнее время нанести ее репутации; и, обладая редким присутствием духа, она сообразила, что злополучный франт очень кстати подвернулся ей на пути и теперь она может восстановить во мнении госпожи свою славу неприступной добродетели. И вот, в то мгновение, когда он попробовал выскочить из кровати, Слипслоп цепко ухватилась за его рубашку и заголосила:
– Ах ты, негодяй! Ты покусился на мою невинность и, боюсь я, погубил меня во сне. Я присягну, что ты совершил надо мною насилие, я буду преследовать тебя по всей строгости закона!
Франт пытался высвободиться, но дама крепко держала его и, пока он боролся, вопила:
– Убивают! Убивают! Воры! Грабеж! Насилие!
Услышав эти слова, пастор Адамс, который лежал в соседней комнате и не спал, размышляя над рассказом коробейника, вскочил с постели и, не теряя времени на одевание, ринулся в комнату, откуда доносились крики. В темноте он сунулся прямо к кровати и коснулся рукою кожи Дидаппера (ибо Слипслоп почти совсем сорвала с него рубаху); почувствовав, что кожа чрезвычайно мягка, и услышав, как франт тихим голосом просит Слипслоп отпустить его, пастор не стал сомневаться, что это и есть молодая женщина, которой грозит насилие; он тут же бросился на кровать, и, когда в руке у него оказался подбородок Слипслоп, поросший жесткой щетиной, его предположение подтвердилось; поэтому он высвободил франта, который тотчас ускользнул, и, обернувшись затем к Слипслоп, получил изрядную зуботычину; загоревшись мгновенно бешенством, пастор поспешил так честно отплатить за эту милость, что, если бы занесенный на бедную Слипслоп кулак не миновал ее в темноте, угодив в подушку, прекрасная дама, вероятно, испустила бы дух. Промахнувшись, Адамс навалился прямо на Слипслоп, которая тузила его и царапала, как могла; он же не отставал от нее в усердии, но, к счастью, ночная темнота благоприятствовала его жертве. Слипслоп стала наконец кричать, что она – женщина, но Адамс отвечал, что она скорее черт, и если это так, то он рад с ним сцепиться; и, разозленный новой зуботычиной, пастор так поддал домоправительнице на добрую память в печенки, что та взвыла на весь дом. Тогда Адамс схватил ее за волосы (повязка в схватке сползла с ее головы), уткнул ее лбом в спинку кровати, и тут оба они закричали, чтобы дали огня.