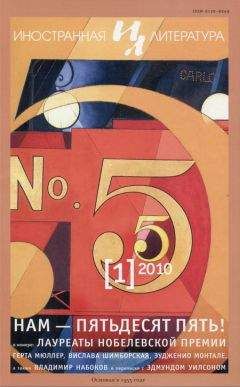Если размыслить, то изменения были (например, некому было помахать в ответ платком), и замешательство Федериго продолжалось недолго. Хохлатка, судя по всему, не заметил его состояния. Он говорил о ловле анчоусов, об урожае, о первом перелете диких голубей и, мимоходом, о немцах и о том, какие притеснения пришлось от них вытерпеть, — так что и тут смешение старого и нового не подтверждало ощущения Федериго об обратимости времени.
Зато грязно-белый дом с просторной верандой на третьем этаже словно бы подкреплял первое заблуждение, ведь каждый камень, каждая щербина на стене и, наконец, стоявший в воздухе запах тухлой рыбы и смолы неумолимо увлекали Федериго вниз, в колодец воспоминаний; однако и тут услужливый Хохлатка поспешил ему на помощь, поведав, что синьор Граццини, дородный владелец дома, который нажился, глотая алмазы в южно-африканских рудниках, давно умер и его собственность перешла в другие руки. Рядом виднелся фасад цвета кровяной колбасы, этот дом сдавался внаем, и Федериго испугался, что сейчас из него выйдет не менее упитанный синьор Карделло, весьма уважаемый в деревне человек, даже после того как убил пинком в живот первую жену. Напрасные страхи: семейство Карделло бесследно исчезло из этих мест.
А адвокат Лампони, который довел младшего брата до самоубийства, чтобы получить его страховку? (Островерхая постройка бутылочного цвета.) А кавалер Фрисси, не раз сжигавший свой пустой магазин в Монтевидео, чтобы наполнить карманы деньгами? (Уродливое сооружение с башнями, колоннами, переплетением змей и вьющихся растений, по которым в дом забирались полчища насекомых и мышей. А из окон гремел граммофон: «Смейся, паяц, над разбитой любовью! Смейся и плачь ты над горем своим!» — и раздавалось то и дело темпераментное caramba! раздражительного спившегося старика.)
На секунду Федериго испугался возможной встречи с двумя соседями: один — в штанах до колена, с голыми икрами и трясущимся брюшком, на волосатой груди — золотая цепочка; второй — мрачное лицо под соломенным сомбреро, окруженный женщинами в трауре, с ореолом достигнутого «положения» щедро расточаемой благотворительности. Но и эта опасность не грозила Федериго, Хохлатка называл другие имена, говорил о других владельцах, и только архитектура домов с облупившейся штукатуркой и крылья ветряного насоса возвращали Федериго к годам юности.
Теперь уже было совсем близко: сухая канава, узкая тропинка над ней, красный мостик, ржавая калитка, склон, ведущий наверх, и наверху, оберегаемая двумя старыми пальмами, пагода. Захрустел под туфлями Федериго гравий, на ветке смоковницы качнулась синица, наполнив воздух переливчатым треньканьем, и седая нестарая женщина, оставя стирку, поспешила ему навстречу.
— А, Мария, — просто сказал Федериго, и опять время как будто вдруг вернуло его на тридцать лет назад и сделало прежним, сохранив богатства, накопленные позже.
Но что за богатства? Никаких алмазов, никаких сгоревших магазинов, никаких родственников, отправленных к праотцам, никаких материальных выгод, извлеченных из местных ресурсов. Методичный невольный труд разрушителя прошлого, долгое плаванье в океане идей и форм жизни, здесь неведомых, погружение во время, которое не показывали солнечные часы синьора Фрисси. Уж не в этом ли состояло богатство Федериго? В этом, а если и в большем, то ненамного, несмотря на тяжесть чемодана.
Федериго отпустил Хохлатку, заплатив ему и попрощавшись за руку, и пошел вслед за постаревшей девушкой, прожившей всю жизнь в доме его родителей. Они говорили запросто, умалчивая, что нашли друг друга очень изменившимися. Говорили о живых, но больше о мертвых. Они подошли к пагоде. Федериго оглянулся, узнал широкий амфитеатр, в который вдавалось море, тополь над оранжереей, где он подстрелил из духового «Флобера»[25] свою первую птицу, поднял глаза на окна четвертого этажа, где пребывали портреты предков, войдя в столовую на первом этаже, обвел взглядом покрытые трещинами стены. Со стены куда-то исчезли копья и стрелы, подаренные унтер-офицером — сигнальщиком, который много лет провел в Эритрее, а вот гравюра на дереве, изображающая молодого строгого Верди, сохранилась. Федериго бегло осмотрел дом и пришел в сильное волнение, как будто встретил призрак близкого человека, увидев в глубине некоего фарфорового сиденья заводской знак: «The Preferable Sanitary Closet»[26] — первое английское словосочетание, какое он запомнил. В этой каморке поистине ничего не изменилось. В других помещениях он обнаружил перемены: еще несколько кроватей, пустые колыбели, новые бумажные образки, заправленные под рамы зеркал, — следы других жизней, сменивших его собственную. Он заглянул и в кухню, где Мария раздувала угли, натянул москитную сетку над кроватью, на которой ему предстояло спать, и, расставив шезлонг, вытянулся перед домом, принадлежавшим ему на одну пятнадцатую.
Он сказал себе: несколько дней в деревне, с теми, кого уже нет в живых, пролетят быстро. Но тут же подумал о блюдах, которые ему будут подавать, и разволновался; не потому, что они будут невкусными, а потому, что у них будет особый домашний вкус, переходящий от поколения к поколению, и ни одной кухарке не истребить его. Преемственность, нарушенная во всем остальном, живет в подливах к жаркому, в запахе чеснока, лука и базилика, в начинке, толченной в мраморной ступе. В силу этой преемственности и его близкие, ушедшие из жизни и обреченные более легкой пище, должны были иной раз возвращаться на землю.
«У тебя ведь есть собственный дом на море», — часто говорили ему удивленные друзья, встречая его на модных пляжах, где даже море словно подается в консервных банках. Дом у него действительно был (на одну пятнадцатую), и вот он приехал посмотреть на него.
Из столовой деликатный звон ножа о стакан возвестил, что ужин подан. А раньше был морской рог, который брат подносил ко рту и дул, как в буцину[27], играя семейный сбор. Куда девался рог? Нужно будет поискать его.
Федериго встал, прицелился пальцем в синицу, рискнувшую последовать за ним до тополя возле оранжереи, и мысленно нажал на спусковой крючок.
— Я смешон, — пробормотал он. — Это будут чудесные дни.
Господин средних лет в элегантном сером костюме, стоявший перед колледжем ордена барнабитов[28] в час, когда школьники выходили после уроков, ничем не привлек к себе внимания нескольких взрослых, которые ждали детей на улице. Только привратник, заметив его, проворчал: «Первый раз вижу. Что ему здесь надо?» Дети появлялись в дверях по одному или небольшими группами. Среди немногих, что пришли за детьми и сейчас брали их за руку, господин средних лет не увидел, к своей досаде, ни одной служанки. Две-три горничные в шляпках среди встречающих, кажется, были, а служанок ни одной.
Господин средних лет — назовем его для краткости синьором М. — буркнул: «Так я и знал», — и медленно направился в сторону портиков улицы Двадцатого сентября. Портики выглядели примерно так же, как сорок лет назад, да и школьное здание не претерпело видимых изменений. А вот сам синьор М. сильно изменился и сознавал это, но он избегал смотреть на свое отражение в витринах магазинов, что позволяло ему забыть, что сорок лет не прошли для него бесследно. Поэтому он отдал шедшей ему навстречу женщине пустую коробочку от съеденного второго завтрака, а также завернутые в клеенку и стянутые резинкой учебники, и женщина повела его за руку к улице Уго Фосколо по многолюдному проезду, по которому, не признавая человека с палкой, как называли в то время регулировщика уличного движения, двигались в обе стороны повозки и автомобили. В начале улицы, носящей имя певца «Граций»[29], синьор М. высвободил руку из руки женщины и побежал вперед. Согбенная старуха семенила за ним, коробочка и связка книг дрожали у нее в руках, она все больше отставала, не в силах угнаться за этим баловником.
Синьору М. было прекрасно известно, что он уже давно не баловник и что старая Мария умерла тридцать лет назад в платной богадельне, куда ее поместили, когда в доме стало невозможно терпеть присутствие восьмидесятилетней женщины, превратившейся в полную развалину, чтоб не сказать в живой труп. Он это знал, но поскольку улицы и дома между колледжем ордена барнабитов и домом, где он жил сорок лет назад, сохранили почти прежний вид, ему не казалось безумием воскресить покойную блюстительницу его детских прогулок. Зачем ему понадобилось приходить к концу уроков в младших классах именно этой школы, если не для того, чтобы снова увидеть Марию? Осталось всего два места, где он мог ее воскресить: этот путь и кухня в отчем доме в Монтекорво, порог которого синьор М. не переступал уже много лет: другие дома, разрушенные или перешедшие к новым владельцам, были не в счет.