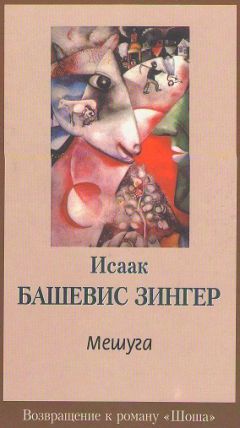«Да, да, да, лепет, вздор, пустая болтовня…» — пробормотал он себе под нос на идише, чуть растягивая на немецкий манер слова.
Открылась дверь, и вошел старший шамес, краснолицый мужчина с курчавой бородой. Он был в легком шерстяном пальто, в полосатых брюках и в широкой, похожей на кастрюлю кипе.
— Герр профессор, — сказал он, — пришел какой-то молодой человек с письмом.
— Что? Кто такой? Что ему надо? Нет у меня времени.
— Я так ему и сказал, но у него письмо, документ как-никак. Письмо от вашего, профессор, ученика.
— Какой еще ученик?! Нет у меня никакого ученика! — Старик весь затрясся от ярости, и лестница тряслась вместе с ним.
— В таком случае я скажу ему, чтобы он уходил.
— Постой. Пусть войдет. Нет от них покоя.
Шамес ушел. Старик с трудом спустился с лестницы и на дрожащих ногах подошел к двери, поднеся к глазам увеличительное стекло, словно готовясь воззриться в душу посетителя. Аса-Гешл приоткрыл дверь и замер на пороге.
— Ну, ну, заходи, — с нетерпением проговорил старик. — Письмо где?
Он выхватил конверт, который протянул ему Аса-Гешл, вцепился тонкими пальцами в лист бумаги и поднес его вплотную к темным стеклам очков. И долгое время не двигался. Казалось, он спит стоя. Вдруг он очнулся и резким движением перевернул исписанный лист. Аса-Гешл снял свою бархатную кипу. Его льняные пейсы были аккуратно подстрижены, из-за ушей торчали лишь небольшие пучки волос. После минутного колебания он вновь водрузил кипу на голову.
— Nu, ja. Так, так, — сухо обронил старик. — Старая история. Сын раввина. Философ. Экстерн. Все одно и то же — в точности как полвека назад.
Он опять перевернул письмо, как будто стремился вычитать в нем что-то еще, написанное между строк, а затем, столь же стремительно, сменил свой изящный немецкий выговор на самый заурядный идиш:
— Почему вместо всей этой ерунды ты не обучился ремеслу?
— Родители были против.
— Это никогда не поздно.
— Я бы с большим удовольствием учился.
— Что значит «учился»? Логарифмами ты никого здесь не удивишь. Сколько тебе лет?
— Девятнадцать.
— Сейчас начинать уже поздно. Все экстерны на экзаменах проваливаются. А если даже и сдают, в университет все равно не попадают. Уезжают в Швейцарию и возвращаются хорошо обученными шноррерами.
— Шноррером я не буду.
— Будешь — когда проголодаешься. Ты еще молод и неопытен. Верно, не спорю, у нас, у евреев, есть голова на плечах. Но мозги наши абсолютно никому не нужны. Почитай древних мудрецов, они ведь говорили, что мудрость бедняка достойна презрения.
— Я хочу учиться, несмотря ни на что.
— Безумец! Там, где нет хлеба, нет и знаний. Что у тебя со здоровьем? Ты кашляешь? Харкаешь кровью?
— Упаси Бог.
— Большинство таких, как ты, больны, и их приходится отправлять в санаторий. А некоторые так отчаиваются, что дают обратить себя в другую веру.
— Я не обращусь.
— Всё вы, молодые, знаете наперед. Но когда у вас рвутся сапоги и нет крыши над головой, вы сами со всех ног бежите к миссионерам.
— Может, я смогу давать уроки… — рискнул сказать Аса-Гешл. Он вынул из кармана синий носовой платок и вытер вспотевший лоб.
— О чем ты говоришь? Ты и сам мало что знаешь. Прости меня за откровенность, я старый человек, я скоро умру, а потому буду говорить правду. Ты не понимаешь, как делаются дела. — Голос его сделался мягче, он приблизился к Асе-Гешлу. — В наши дни недостатка в образовании нет. Учатся все. У нас в синагоге есть дворник, у дворника сын — даже он овладел логарифмами. Причем, очень может быть, не хуже тебя. Ну, а польский и русский он уж точно знает лучше, к тому же он тебя моложе. И вдобавок он христианин, перед ним открыты все двери. И как ты собираешься с ним конкурировать?
— Я ни с кем не собираюсь конкурировать.
— Без этого нельзя. Такова жизнь — это постоянная борьба. Нашим молодым людям не дают ходу. И в других странах, кстати, тоже. Кстати, почему ты не женат?
Аса-Гешл промолчал.
— В самом деле, почему? Молодой человек должен рано или поздно жениться. Тогда, по крайней мере, у него будут жена, пища и крыша над головой в доме ее родителей. А о завтрашнем дне пусть заботится Всевышний. Здесь же ты можешь помереть с голоду, и всем на это будет наплевать. Очень сожалею, но ничем помочь не могу. Я, как видишь, почти совсем ослеп.
— Я понимаю и прошу прощения. Спасибо и всего наилучшего.
— Погоди, не уходи. Другие пристают с ножом к горлу, а ты сразу же на попятный. Если ты, в придачу ко всему, еще и горд, тогда тебе уж точно погибель.
— Но у вас, вероятно, нет времени.
— Мое время не стоит и понюшки табака. Первым делом я дам тебе записку к Шацкину, у него бесплатная кухня для студентов. Сможешь там бесплатно пообедать.
— Мне не нужны бесплатные обеды.
— Боже, Боже! Ты, я вижу, еще и упрям! Обеды не бесплатные. За них платят богатые люди. От твоих обедов Ротшильд не обеднеет.
Старик махнул Асе-Гешлу рукой, чтобы тот сел на кожаный диванчик, а сам подсел к письменному столу и окунул перо в полупустую чернильницу. Постанывая, он набросал несколько слов, встряхнул пером и поставил на бумагу небольшую кляксу. Дверь открылась, и опять вошел шамес.
— Герр профессор, к вам Абрам.
— Что за Абрам? Какой еще Абрам?
— Абрам Шапиро. Зять Мешулама Муската.
Бледно-желтое лицо старика расползлось в улыбке.
— А, этот. Тот еще циник. Пускай войдет.
Не успел он произнести эти слова, как дверь распахнулась и в комнату ворвался громадный мужчина с иссиня-черной квадратной бородой, в развевающемся плаще и в широкополой плюшевой шляпе. На шее у него вместо галстука красовался шейный платок, по бархатному жилету прыгала золотая цепочка, а в руке он держал витую трость с украшенной серебром и янтарем ручкой, напоминающей оленьи рога. Был он так высок, что, входя, ему пришлось наклонить голову, его широкие плечи застревали в дверном проеме. Его раскрасневшееся лицо было цвета красного вина. Изо рта у него торчала сигара. Вместе с ним в комнату ворвался запах табака, ароматного мыла и чего-то еще столичного и ласкающего слух. Доктор Шмарья Якоби двинулся ему навстречу, и вновь прибывший стиснул протянутую стариком руку в своих волосатых лапах.
— А, профессор! — заревел он. — Прогуливаюсь я, знаете ли, где-то между Тломацкой и Белянской и думаю: а не навестить ли мне нашего дорогого профессора Якоби, не узнать ли, как он поживает? У меня — если позволительно будет так выразиться — было назначено рандеву с дамой. Но она меня надула, да-с. Встретиться мы должны были в отеле «Краков». Ладно, черт с ней. Господи, профессор, вы с каждым днем становитесь моложе. Я же, наоборот, постарел, как Мафусаил: стоит мне подняться по лестнице всего на один марш — и сердце колотится, точно у вора, за которым гонится полиция. Боже, ну и книг у вас! Эти ваши мудрецы горазды писать да рассуждать, а когда доходит до дела — пустой звук! Ну-с, как вы, мой дорогой профессор? Как там ваша книга о календарях? Продвигается? Какие новости на небесах? Вы ведь у нас астроном как-никак. На земле же одна сплошная ерунда. Такая, что с ума сойти впору! Взять хотя бы сегодняшний день. Пусть у антисемитов будет такой день! Со всеми поссорился! С женой, с тестем, с детьми! Даже со служанкой. Всю Варшаву обегал. Пошел к доктору Минцу. «Да вы не расстраивайтесь, — говорит, — пупок надорвете». — «Ага, — говорю ему, — а вы сами попробуйте не расстраиваться, я на вас посмотрю». Так ему и сказал. Он полагает, что достаточно мне лечь на диван и закрыть глаза, чтобы все тут же уладилось. Нет, профессор, я не из таких. Я рычу, как лев. Слышите, профессор? Если б мне не было стыдно, я бы такой рык издал, что вся Варшава развалилась бы, как карточный домик. А кто этот юный господин? Что это он притаился тут, точно котенок?
Старый профессор молча слушал Абрама, улыбался беззубым ртом и только покачивал из стороны в сторону головой. Судя по всему, он совершенно забыл про юношу из Малого Тересполя. Теперь же он повернулся, взглянул на него и, потерев рукой свой желтый, точно из слоновой кости, лоб, проговорил:
— Этот молодой человек? Ах да. Я же обещал дать ему записку. В бесплатную кухню.
— Нет, спасибо, в этом нет нужды, — пытался протестовать Аса-Гешл. — Деньги у меня есть.
Абрам сделал удивленный жест и захлопал в ладоши.
— Слыхали, профессор? У него есть деньги, — вскричал он. — Первый раз в жизни слышу, чтобы человек признавался, что у него есть деньги. Почему вы такой тихоня, молодой человек? Я уже сорок лет ищу такого, как вы, — а он сидит и помалкивает! Стыдитесь, профессор! Зачем ему ваша бесплатная кухня?!
— Он приехал в Варшаву учиться. Это внук раввина, вундеркинд.
— В самом деле? Есть, оказывается, и такие? А я-то думал, что их и след простыл, что вся порода вымерла, как динозавры, — простите за сравнение. Дайте-ка мне на него взглянуть. Скажите, профессор, какую хвалу следует вознести небесам за то, что мне встретилась столь редкая порода? И что же он приехал изучать?