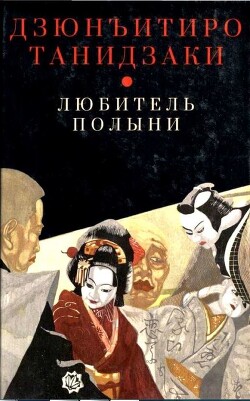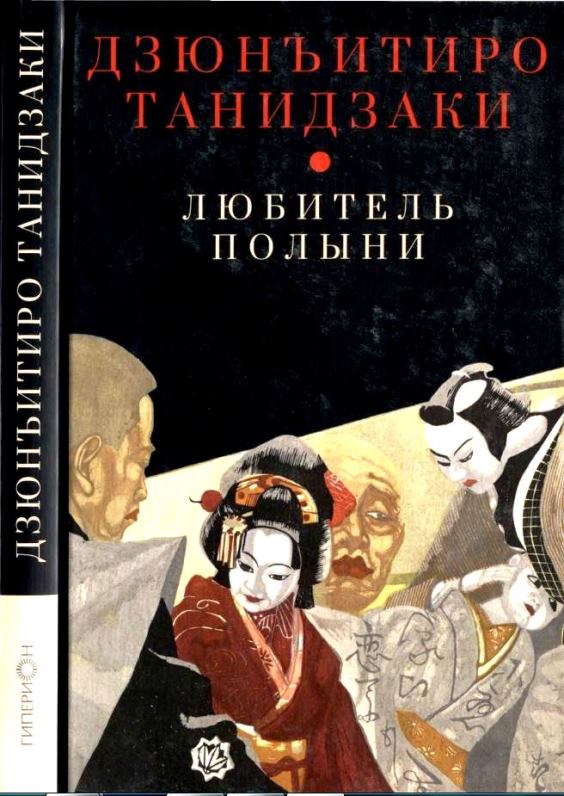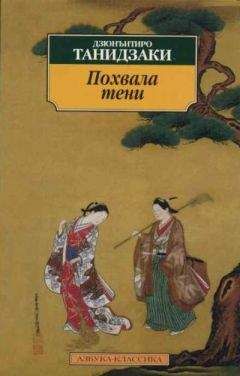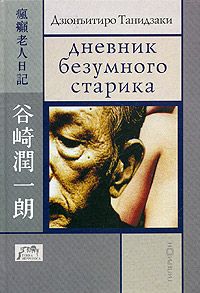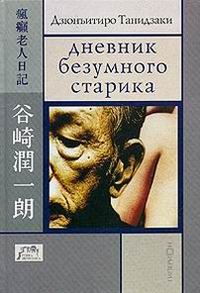Вообще-то Канамэ не любил манеры рассказчика, за редким исключением она была ему неприятна своей нарочитостью. Как и его жена, Канамэ был уроженцем Токио, и ему был невыносим проявляющийся в манере рассказчика осакский характер — удивительно беззастенчивый, наглый, любой ценой добивающийся своей цели. Все токийцы немного застенчивы. У них отсутствует осакская непринуждённость, в трамвае или поезде они не заговаривают без всякого стеснения с незнакомым человеком и уж тем более не справляются, сколько он заплатил за ту или иную вещь и где он её купил. Для токийцев такое поведение — признак невежливости и невоспитанности. Благожелательный наблюдатель скажет, что манеры токийцев совершенны, но постоянная забота о собственной непогрешимости и о впечатлении, производимом на других, неизбежно приводит к нерешительности и пассивности. В речитации рассказчика эта в высшей степени ненавистная токийцам невоспитанность проявляется с лихвой. Какие бы сильные эмоции он ни выражал, можно было бы не искажать так безобразно лица, не кривить губы, не откидываться назад, не дёргаться в корчах. Если подобные эмоции нельзя выразить иначе, токийцы предпочитают обходиться без них и только посмеиваются над ними.
Мисако в своё время обучалась пению баллад нагаута[29] и ныне, чтобы отвлечься от своих сокровенных мыслей, бралась за сямисэн. Канамэ привык к её музицированию, и ясные извлекаемые плектром звуки были ему в какой-то степени, хотя и в малой, даже приятны. Старик утверждал, что в Токио исполнитель на сямисэн — за исключением тех случаев, когда играет большой мастер, — орудует плектром слишком энергично, плектр ударяет по коже резонатора, и звук струны от этого гаснет. В Киото при исполнении баллад нагаута и в кукольном театре плектром так сильно не ударяют, поэтому инструмент резонирует и звук получается полным. И Канамэ, и Мисако возражали: японские музыкальные инструменты в конечном счёте просты, в стиле Эдо[30] главное — лёгкость, грубой силы в нём нет, и это ни в коем случае не является недостатком. Когда речь заходила о пении под сямисэн, супруги, спорящие со стариком, были единодушны.
У старика каждое второе слово было: «нынешние молодые люди»; по его мнению, люди, увлекающиеся Западом, во всём поверхностны, подобны марионеткам в Тёмном театре с их необозначенной поясницей. В ворчании старика были, конечно, преувеличения. Лет десять тому назад он сам сыпал утверждениями, от которых ныне приходит в негодование. Сейчас он вспыхивает от таких утверждений, как «японские инструменты просты», и начинаются его обычные разглагольствования. Канамэ это давно надоело, и он не вступал в спор, но его задевало, что тесть считал его поверхностным человеком. Он прекрасно понимал, что его «приверженность Западу» была реакцией на культуру эпохи Токугава,[31] значительная часть которой составляет культуру нынешней Японии, но если бы он попытался объяснить старику своё отношение, ему было бы трудно найти нужные слова. Неудовлетворённость, которую он смутно ощущал, происходила от того, что, говоря упрощённо, уровень культуры Токугава был довольно низок; народились торговцы, и как бы далеко человек ни продвинулся, он всё равно не мог избавиться от духа «нижнего города». Самому Канамэ, выросшему в нижней части Токио, её атмосфера не была неприятна, в ней заключались воспоминания о милом прошлом, однако вместе с тем, будучи уроженцем «нижнего города», он особенно остро ощущал его дух, и дух этот был пошлым. Сопротивляясь ему, Канамэ стремился к вещам, далеко отстоящим от вкусов места его рождения, — к религии, к идеальному. Каким бы красивым и привлекательным ни было какое-то произведение, если оно не производило глубокого, возвышенного впечатления на душу, такого, чтобы он сам стал на колени и поклонялся ему, чтобы оно устремляло его высоко в небо, оно вызывало у Канамэ чувство неудовлетворённости. Так было не только с искусством, так было и в отношении к женщинам. Он был поклонником женского пола. И всё же до сих пор он не встретил такую любовь и не испытал того воодушевления от произведения искусства, которых жаждал. Его желания оставались неясным сном, он горел стремлением к чему-то невиданному. Только когда он читал западные романы, слушал западную музыку и смотрел фильмы, ему казалось, что он находит воплощение своих страстных влечений. На Западе с давних пор существовал культ женщины. Западный мужчина в любой женщине видел богиню греческих мифов, воображал перед собой образ Богоматери. Подобные верования широко распространились, слились с различными обычаями и получили отражение в искусстве. Канамэ ничего подобного в чувствах и нравах своих соотечественников не находил, картина представлялась ему совершенно безрадостной. Конечно, искусство раннего Средневековья с его буддийским характером и театр Но пробуждали возвышенные чувства, но в эпоху Токугава влияние буддизма ослабло, и искусство становилось всё более и более бездуховным. Женщины в произведениях Сайкаку[32] и Тикамацу — это женщины, рыдающие у ног мужчины, но никогда мужчина не сгибал перед ними колен и не смотрел на них снизу вверх. Поэтому Канамэ больше, чем Кабуки, любил фильмы из Лос-Анджелеса. Мир американского кино, в котором беспрерывно создавались новые красавицы и который льстил женщинам, был вульгарным, но он был близок его мечте. В театре и музыке токийского стиля выражался энергичный и изящный характер эдосцев, а стиль рассказчика в кукольном театре казался ему донельзя грубым и слишком близким к вкусам Токугава, он был неприятен Канамэ, поэтому он не ходил в кукольный театр.
Но почему-то сегодня с того момента, как он устремил глаза на сцену, он не чувствовал обычной неприязни; он был невольно вовлечён в мир кукольного действа, и даже тяжёлые звуки сямисэн впервые находили путь к его сердцу. Он смотрел на сцену со спокойным наслаждением, и зрелище страстей антипатичных ему торгашей совпадало с его собственными стремлениями последнего времени. Когда он видел декорацию — вход, завешенный бамбуковой занавеской, парадный вход, выкрашенный красной охрой, решётку, которой отгораживалась левая часть сцены, — вся обстановка бытовой драмы пробуждала в нём неприязнь к атмосфере «нижнего города», тёмной, сырой, но в этом сыром мраке таилась глубина, как в буддийском храме, в которой можно было различить тусклый блеск, подобный сиянию нимбов старинных буддийских статуй в божнице. Этот блеск отличался от яркого света американских фильмов, и рассеянный посетитель, проходя мимо, не заметил бы скрытого в пыли многовековой традиции печального дрожащего сияния.
Второе действие окончилось.
— Вы, наверное, проголодались. Пожалуйста, угощайтесь. Всё это не так уж вкусно… — С этими словами О-Хиса накладывала каждому содержимое своих коробок.
В глазах Канамэ всё ещё стояли лица Кохару и О-Сан, и он с сожалением расставался с ними, но, с другой стороны, он опасался, что старик в своих разглагольствованиях начнёт цитировать: «Живёт чёрт, живёт змея».
— Прошу прощения, что мы вас покидаем…
— Уже уходите?
— Я не прочь досмотреть, но Мисако хочет в Сётику.
— Конечно, мадам… — примирительно произнесла О-Хиса и посмотрела на старика и Мисако.
Супруги, услыхав, что начинается вступление к следующему акту, прошли в сопровождении О-Хиса в коридор. Выйдя на улицу Дотомбори, освещённую ночными фонарями, Мисако облегчённо вздохнула.
— Демонстрация сыновнего долга была не слишком длинной…
Канамэ ничего не ответил. Он направился к мосту Эбису, и Мисако окликнула его:
— Куда ты?
Он обернулся и зашагал вслед за женой, которая торопливо шла к мосту Нихонбаси.
— Я думал, что там легче поймать машину.
— Который час?
— Половина седьмого.
— Как быть?
— Если ты хочешь ехать, ещё не поздно.
— Отсюда быстрее всего на поезде с Умэда.
— Быстрее всего на экспрессе Ханкю, а в Камицуцуи взять такси. В таком случае мы здесь расстанемся.
— А ты куда?
— Погуляю в Синсайбасисудзи[33] и поеду домой.