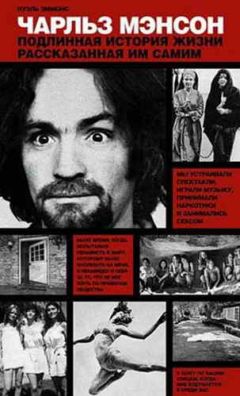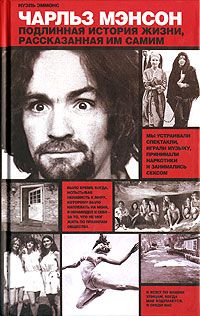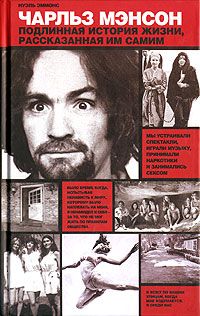— Тампоны, пожалуйста, — скомандовал Айвори своим бесстрастным голосом. Он ковырялся в крови, пытаясь зажать ножку кисты, осушая переполненную кровью полость, не умея остановить кровоизлияние. Ослепляющей молнией пронизала Эндрью догадка. Он твердил мысленно: «Всемогущий Боже! Да он не умеет оперировать, совсем не умеет!»
Анестезиолог, прижав палец к шейной артерии Видлера, пробормотал тихим голосом, точно извиняясь:
— Боюсь... он, кажется, кончается, Айвори.
Айвори, бросив зажим, затампонировал вскрытую полость окровавленной марлей. Начал накладывать швы на широкий разрез. Вздутия больше не было. Живот Видлера представлял собой вогнутую, безжизненно белую поверхность, потому что Видлер был мертв.
— Да, он скончался, — сказал врач.
Айвори наложил последний шов, методически обрезал конец и повернулся к подносу с инструментами, чтобы положить ножницы. Эндрью, точно парализованный, не мог шевельнуться. Мисс Бакстон — с желтым, как глина, лицом машинально клала горячие бутылки сверх одеяла. Видимо, ей стоило больших усилий владеть собой. Она вышла. Служитель, не зная о том, что случилось, внес носилки. Через минуту тело Гарри Видлера было отнесено наверх, в его палату.
Айвори наконец заговорил.
— Какая неудача, — сказал он обычным, спокойным тоном, снимая халат. — Я полагаю, это шок, как вы думаете, Грей?
Грей что-то невнятно пробормотал в ответ. Он был занят укладкой своих принадлежностей.
Эндрью все еще не мог говорить. В сумбуре ощущений он вдруг вспомнил о миссис Видлер, ожидавшей внизу. Айвори точно прочел его мысли. Он сказал:
— Не беспокойтесь, Мэнсон. Я сам скажу его жене. Пойдемте. Я вас от этого избавлю.
Бессознательно, как человек, утративший всякую способность к сопротивлению, Эндрью пошел за Айвори вниз, в приемную. Он все еще был, как оглушенный, ощущал слабость и тошноту и не мог себе представить, как он скажет правду миссис Видлер. Дело это взял на себя Айвори — и оказался на высоте.
— Дорогая моя, — сказал он сострадательно и покровительственно, ласково кладя ей руку на плечо, — боюсь... боюсь, что новости для вас плохие.
Она сжала руки в поношенных коричневых перчатках. Ужас и мольба смешались в ее глазах.
— Что?!
— Ваш бедный муж, миссис Видлер, несмотря на все наши старания...
Она рухнула на стул с посеревшим, как пепел, лицом, все еще конвульсивно сжимая руки в перчатках.
— Гарри! — зашептала она раздирающим душу голосом. Потом опять: — Гарри!
— От имени доктора Мэнсона, доктора Грея, мисс Бакстон и моего могу вас уверить только в одном, — продолжал печально Айвори, — что никакими силами на свете нельзя было его спасти. И если бы даже он и пережил операцию... — Айвори выразительно пожал плечами.
Она подняла на него глаза, поняв, что он хочет сказать, и даже в эту страшную для нее минуту тронутая его снисходительностью и сочувствием.
— Это самое доброе слово, какое вы мне могли сказать, доктор, — промолвила она сквозь слезы.
— Я сейчас пришлю к вам сестру. Крепитесь. И благодарю вас за мужество.
Он вышел из комнаты, и Эндрью опять пошел за ним. В конце коридора находилась пустая контора, и дверь в нее стояла открытой. Нащупывая в кармане портсигар, Айвори вошел в контору. Здесь он вынул папиросу и закурил, жадно затягиваясь. Лицо его, быть может, было чуточку бледнее обычного, но губы спокойно сжаты, рука не дрожала, в нем не чувствовалось никакого нервного напряжения.
— Ну, все позади, — сказал он хладнокровно. — Мне очень жаль, Мэнсон. Я не думал, что эта киста геморагическая. Но знаете, такие вещи случаются у самых лучших специалистов.
Комната была маленькая, в ней стоял только один-единственный стул у письменного стола. Эндрью тяжело опустился на обитые кожей деревянные перила, окружавшие камин. Он смотрел, как безумный, на папоротник в желтозеленом горшке, стоявшем на пустой каминной решетке. Он чувствовал себя больным, разбитым, близким к полному изнеможению. Он не мог забыть, как Гарри Видлер сам, без чьей-либо помощи, подошел к столу. «Когда все это кончится, я сразу поправлюсь». А потом, десять минут спустя, он лежал, как мешок, на носилках, искалеченный, убитый рукой мясника. Эндрью заскрежетал зубами, закрыл лицо рукой.
— Конечно, — Айвори разглядывал кончик своей папиросы, — он умер не на столе. Я кончил операцию раньше, так что все в порядке. Вскрывать не понадобится.
Эндрью поднял голову. Он дрожал, он злился на себя за слабость, проявленную им в этом ужасном положении, которое Айвори переносил так хладнокровно.
Он сказал с чувством, похожим на бешенство:
— Замолчите вы, ради Бога! Вы знаете, что это вы его убили. Вы не хирург. Вы никогда не были и не будете хирургом. Вы самый скверный мясник, какого я когда-либо видел в своей жизни.
Пауза. Айвори бросил на Эндрью жесткий и непонятный взгляд.
— Я бы вам не советовал разговаривать со мной таким тоном, Мэнсон.
— Да, я знаю... — мучительное истерическое рыдание вырвалось у Эндрью, — я знаю, что вам это не нравится. Но это правда. Все те операции, которые я вам до сих пор передавал, были детской игрой. А эта... это первый серьезный случай. И вы... О, Боже! Мне следовало знать... я виноват не меньше вас.
— Возьмите себя в руки, вы, истерический болван! Вас могут услышать.
— Так что же? — Новый приступ бессильного гнева охватил Эндрью. Он сказал, задыхаясь: — Вы знаете так же хорошо, как и я, что это правда. Вы копались столько времени и так неумело... это почти убийство.
Одно мгновение казалось, что Айвори свалит его на землю ударом, — при его силе и тяжеловесности он, хотя и был старше Эндрью, мог бы легко это сделать. Но он с большим трудом овладел собой. Ничего не сказал, просто повернулся и вышел из комнаты. На его холодном и суровом лице было неприятное выражение, говорившее о ледяной, непрощающей злобе.
Эндрью не помнил, сколько времени просидел в конторе, прижавшись лбом к холодному мрамору камина. Но в конце концов встал, смутно сознавая, что его ждут больные. Страшная неожиданность случившегося ударила в него с разрушительной силой бомбы. Ему казалось, что и он тоже выпотрошен и пуст. Но он автоматически двигался, шел, как тяжело раненый солдат, побуждаемый механической привычкой, идет выполнять то, что от него требуется.
В таком состоянии он кое-как умудрился объехать своих больных. Потом, с свинцовой тяжестью на душе, с головной болью, воротился домой. Было уже поздно, около семи часов. Он пришел как раз вовремя, чтобы начать вечерний прием.
Парадная приемная была полна, амбулатория набита до самых дверей. Через силу, словно умирающий, занялся он этими людьми, пришедшими сюда несмотря на чудный летний вечер. Больше всего было тут женщин, главным образом служащих Лорье, людей, ходивших к нему неделями, людей, которых ободряла его улыбка, его такт, его советы держаться того или иного лекарства. «Все то же, — подумал он тупо, — все та же старая игра!»
Он опустился на свою вертящуюся табуретку и с похожим на маску лицом начал обычный вечерний ритуал.
— Ну, как вы себя чувствуете? Да, я нахожу, что выглядите вы у же чуточку лучше. Да. И пульс гораздо лучше. Лекарство вам помогает. Надеюсь, оно вам не слишком надоело, моя дорогая!
Из амбулатории — к стоящей наготове Кристин, передать ей пустую склянку, потом по коридору в кабинет, здесь нанизывать те же самые вопросы, выражать напускное сочувствие, говорить банальные фразы. Затем — опять по коридору, взять у Кристин налитую бутылочку. Назад в амбулаторию. Верчение в заколдованном круге, на которое он сам себя обрек.
Вечер был душен. Эндрью страдал ужасно, но продолжал работу, то мучаясь, то впадая в мертвое бесчувствие. Продолжал потому, что не мог остановиться. Шагая из кабинета в амбулаторию и обратно, он, в оцепенении муки, спрашивал себя: «Куда я иду? Куда я иду, Господи?»
Наконец, позднее обычного, в три четверти десятого, прием кончился. Он запер входную дверь амбулатории, прошел в кабинет, где, по заведенному обычаю, ожидала его Кристин, готовясь сверить с ним списки, помочь ему записать все в книгу и подсчитать.
В первый раз за много недель он посмотрел на нее внимательно, пристально заглянул ей в лицо, когда она с опущенными глазами просматривала список, который держала в руке. Перемена в ней потрясла его, несмотря на то онемение души, в котором он находился. Лицо у нее было застывшее, сосредоточенное, углы рта опустились. Она не глядела на него, но он угадывал смертельную грусть в этих глазах.
Сидя за столом перед толстой счетной книгой, он ощущал ужасную тяжесть в груди. Но его тело, непроницаемая внешняя оболочка, не давало смятению души пробиться наружу. Раньше чем он успел что-нибудь сказать, Кристин начала читать вслух список.