Вейн замыслил свести меня с этой дамой. Ей он расписал меня яркими красками: выходило, что я богатый наследник, подающий надежды начинающий писатель, и доход у меня будет такой, что я смогу содержать ее в роскоши. Мне же он намекнул, что она в меня влюбилась. Никаких особых чувств эта дама во мне не вызывала; я смотрел на нее, как смотрят на красивое животное. Вейн сыграл на моем тщеславии. Он мне завидовал, да и как было мне не завидовать: талант у меня был, а опыт — дело наживное. Коли хочешь быть великим, изволь учить все уроки, которые дает тебе жизнь, пусть от такой учебы тошно и тебе, и твоим ближним.
Если раньше я стремился выработать у себя любовь к сигарам и горячительным напиткам, полагая эти качества необходимыми начинающему стоящему литератору, то теперь я принялся лелеять в себе вкус к страсти нежной. Вейн исправно снабжал меня литературой — как художественной, так и исторической; из книг следовало, что Подлинный поэт обязан вечно пребывать в тоске и печали. То, что я по природе своей меланхоликом не был и на роль вздыхателя не годился, показалось тому юному идиоту, о котором я пишу, недостатком характера, коий нужно искоренить. Не насторожило его и то, что ее ласковые взгляды отнюдь не сводят с ума, а, наоборот, раздражают; не остановил и тот факт, что, когда она украдкой пожимает ему руку, от ее жаркой и влажной ладони не бежит электрический разряд. Отнюдь! Все это он отнёс на счет своей холодности, и его мужское достоинство было задето. Я решил влюбиться в нее. Разве в других кровь горячее? Ведь я же артист, в конце-то концов! А мы, артисты, народ безрассудный.
Но не стану утомлять читателя исповедью, мне и самому это надоело. Скажу только, что Судьба меня хранила, и мне не пришлось играть роль, отведенную мне Вейном, Она перекроила разыгрываемый нами пошлый фарс, вытащила меня на свет Божий, встряхнула и поставила на ноги. Нельзя сказать, чтобы сия дама действовала деликатно, но я не склонен винить добрую старушку: трясина засасывает быстро, и тащить увязшего надо не мешкая, пусть даже за уши.
Наш друг поставил пьесу куда быстрее, чем мы на то рассчитывали. До Лондона доползли слухи, что нечто похожее уже прошло в провинции. Возникли подозрения, стали наводить справки. «Пронесет», — говорил Вейн. Но, похоже, ветер дул в нашу сторону.
Жалование актерам выдавал я; получка была по пятницам вечером. Вейн приносил мне деньги, и после спектакля каждый получал сколько ему положено. Нас занесло в какую-то дыру на севере Ирландии. В тот день я Вейна не видел. Переодевшись, я вышел из гримерной и отправился на поиски. В кассе билетер передал мне записку. Она была краткая и по существу, Вейн, прихватив с собой всю недельную выручку, отбыл поездом 7,50. Он приносит извинения за причиненные неудобства и напоминает, что в жизни всегда есть место маленьким комедиям, и человек умный сему инциденту значения придавать не станет. Не исключено, что мы еще встретимся и вместе посмеемся над нашими злоключениями.
По театру поползли слухи. Когда я оторвал взгляд от записки, то обнаружил, что меня обступили актеры; смотрели они на меня с нескрываемым подозрением. В горле у меня пересохло. Я сказал им всю правду. Однако оказалось, что мне никто не верит. Вейн поступил весьма осмотрительно: импресарио числился я — с меня и весь спрос. Мой жалкий лепет актеры сочли наглой ложью. Разбирательство продолжалось, с четверть часа. Я был близок к обмороку, и это меня спасло: что там они говорили, я не слышал, а посему и волновать это меня не могло. Мною овладела полная апатия. Вся эта сцена казалась мне смешной, глупой, утомительной; я испытывал одну лишь досаду. Кто-то предложил меня «вздуть». Мне захотелось узнать, будет ли приговор приведен в исполнение немедленно или экзекуция будет отложена до утра, но я понял, что вопрос мой может показаться бестактным. Я пришел к выводу, что подлинная история пьесы и причины ее экстренной переделки были изначально известны всей труппе. Просто весь свой праведный гнев они приберегли до сегодняшнего вечера. Я ничего не соображал и на происходящее реагировал вяло; это бросилось в глаза. Стали искать объяснения столь странному поведению. Какая-то добрая душа — или, наоборот, злобный клеветник? — высказал предположение, что я пьян. Слава Богу, версия показалась правдоподобной, и так как поезда ходили здесь лишь раз в сутки, то меня отпустили подобру-поздорову. Договорились с утра пораньше прислать ко мне на квартиру депутацию.
Наша героиня отправилась к себе, как только дали занавес; ждать ей не было никакого смысла — деньги за нее получал муж. Придя домой, я увидел, что она сидит у камина… Я вдруг вспомнил, что наш квартирьер заболел и временно на его место взяли ее мужа, а он еще в среду отбыл в следующий числящийся у нас по плану город, чтобы все организовать. Я решил, что она пришла за деньгами, и это меня позабавило.
— Что скажете? — спросила она, очаровательно, следует полагать, улыбаясь. Вот уже несколько месяцев я пытался убедить себя в том, что улыбка ее завораживает, однако особых успехов не добился.
— А вы что скажете? — огрызнулся я. Она мне надоела, я не хотел ее видеть, мне хотелось побыть одному.
— Ты что, не рад меня видеть? Что с тобой? Что случилось?
Я засмеялся.
— Вейн сбежал. И прихватил с собой всю недельную выручку.
— Вот скотина! — сказала она. — Я сразу поняла, что это за тип. Ну и черт с ним. Тебе-то какое до него дело?
— Большое. Всем нам до него есть дело, — ответил я. — Весь юмор в том, что касса пуста. Нечем платить жалованье, не на что купить билеты до Лондона.
Она резко поднялась со стула.
— Что-то я ничего не понимаю. Ты кто? Богатый балбес, каким тебя расписал Вейн, или его сообщник?
— И балбес, и сообщник, — ответил я. — Разве что не богатый. Антреприза его. Я — подставное лицо, он не хотел, чтобы на афишах было его имя, — по семейным, видите ли, обстоятельствам. И пьеса его — только она краденая.
Она даже присвистнула от удивления.
— Все эти переделки показались мне подозрительными с самого начала. Но в театре всегда много смешного и непонятного. Значит, говоришь, пьеса краденая?
— От начала и до конца. Он похитил рукопись. А я поставил свое имя, и все по той же причине — нельзя, дескать, чтобы его имя появилось в печати.
Она упала на стул и засмеялась — весело, громко, раскатисто.
— Чтоб ему лопнуть! — сказала она. — Это первый мужчина, которому удалось меня облапошить. Знала бы, что антреприза его, — ни за что бы не подписала ангажемент. Я же его сразу раскусила. — Она вскочила со стула. — А теперь — до свидания, — сказала она. — Я хотела лишь узнать, когда мы завтра выезжаем. Я что-то запамятовала. Никому не говори, что я заходила.
Уже открывая дверь, она опять рассмеялась, да так, что чуть не упала, ей даже пришлось прислониться к стене.
— А знаешь, зачем я пришла на самом деле? — спросила она. — Ладно, так уж и быть, скажу, все равно потом догадаешься. Я пришла сказать «да». Я обдумала предложение, что ты мне сделал вчера вечером. А ты, как я погляжу, уже и забыл!
Я смотрел на нее, ничего не понимая. Вчера вечером? Так давно? Какое может иметь значение, что я там ей предлагал?
Она опять засмеялась.
— Никак не вспомнишь? Ты же умолял меня бежать с тобой, чтобы наши сердца могли стучать в унисон. Весь день я была вне себя от счастья. Ну да ладно. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи! — ответил я. Мне захотелось наброситься на нее, вытолкать за порог, захлопнуть за нею дверь. Да оставьте вы все меня в покое! Чтобы сдержать свой порыв, я вцепился в спинку стула.
Было слышно, как поворачивается ручка двери, а потом кто-то спросил женским голосом:
— А деньги на дорогу у тебя есть?
Я вывернул карманы.
— Один фунт семнадцать шиллингов, — ответил я, пересчитав деньги. — Хватит на билет до Лондона или на приличный обед да подержанный револьвер. Что мне нужнее — еще не решил.
— Поезжай домой и приходи в себя, — сказала она. — У тебя ведь вся жизнь впереди! Спокойной ночи!
Я собрал свои нехитрые пожитки, сунул их в портфель и тронулся в путь. До Белфаста было тридцать миль, и я шел всю ночь. Приехав в Лондон, я поселился в Дептфорде — вероятность того, что я случайно повстречаю кого-нибудь из старых знакомых в этом районе, была ничтожно мала. Я влачил жалкое существование, перебиваясь случайными заработками; я давал уроки пения по шесть пенсов за полчаса занятий; учил честолюбивых приказчиков немецкому и французскому (да простит мне Господь!) — по восемнадцать пенсов в неделю; сводил дебет с кредитом в мелочных лавочках — за это платили вообще гроши. От матушки оставались кое-какие драгоценности — они выручали меня, когда доходов совсем не было. Я прожил в Дептфорде несколько месяцев, боясь высунуть нос за его пределы. Иногда, бесцельно слоняясь по улицам, я натыкался на какие-то дома и лавки, казавшиеся мне знакомыми. В таких случаях я немедленно разворачивался и стремительно удалялся в свой склеп под сенью темных суматошных улиц.
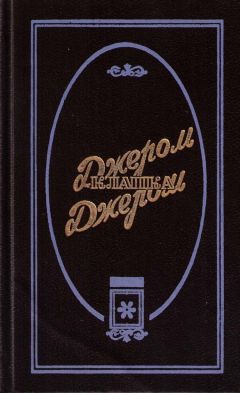
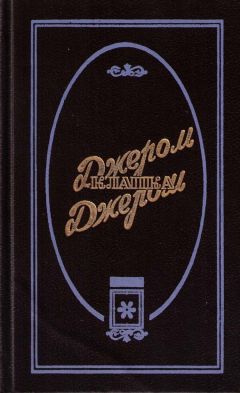


![Мелисса де ла Круз - Ведьмы Ист-Энда. Приквел: Дневники Белой ведьмы[Witches of East End. Prequel: Diary of the White Witch]](https://cdn.my-library.info/books/48380/48380.jpg)
