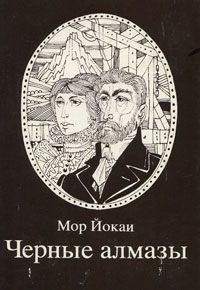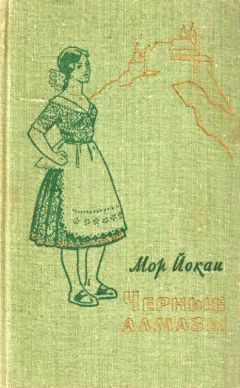Каульман пытался изобразить мучительные душевные терзания.
– Ах, сударь, да не трите вы глаза и щеки! – с досадой отворачиваясь, воскликнул князь. – Я все равно не поверю, что вы плачете или что вы покраснели. Времени остается в обрез; мой совет – не тратьте его понапрасну.
Это святая правда. Надо спешить. Поэтому господин Феликс скомкал заключительную сцену и обошелся без вырывания волос на голове – как признака тяжких метаний между чувством порядочности и крайним отчаянием; он принял выгодную сделку и протянул князю руку.
Но Вальдемар и на этот раз не подал ему руки, а ограничился поклоном.
– Пометьте себе в записной книжке наряду с другими сделками: у нас нет причины пожимать друг другу руки. Предельно точно запишите все условия! Если я завтра до часу дня получу от вас приглашение на вечер, то завтра не появлюсь на бирже. Если послезавтра до часу дня я получил от вашего нотариуса официальное извещение о заключении гражданского брака, то я и в этот день не поеду на биржу. И если до часу пополудни на четвертый день ко мне придет ваше доверенное лицо и сообщит, что вы отбыли на брюссельский рынок проводить операцию с займом и шлете мне ключ от квартиры с просьбой ко мне как деловому компаньону заменить вас, то я появлюсь на бирже и обеспечу займу блистательную победу. А теперь можете плакать или смеяться, но только не в моем доме.
Итак, господин Каульман наилучшим образом уладил свои дела с князем Вальдемаром.
Князь действительно был безумно влюблен в Эвелину.
С тех пор, как он услыхал ее пение в соборе св. Евстахия, он готов был следовать за нею хоть в пустыню, поселиться в пещере и питаться акридами, как святой Антоний, – лишь бы она появилась в образе искусительницы!
Каульман добился тут полного успеха.
Князь не возглавит контригру, не воспользуется бондаварской катастрофой, начинания фирмы Каульман не потерпят крах.
Напротив, князь предотвратит панику на венской бирже, когда распространится слух о катастрофе на шахте, он поддержит курс бумаг. Он позволит выпустить на парижской и брюссельской бирже церковный заем и сам подпишется, притом на солидную сумму.
И во что же это обойдется Каульману? Ровным счетом ни во что. В одно доброе слово красивой женщины.
Пусть еще раз покажут свою магическую власть черные алмазы: черные глаза Эвелины. А там доставайся они тому, кто больше заплатит.
Каульман долго ждал возвращения священника, но, не дождавшись его, решил самолично отправиться к супруге.
Он не застал ее дома. Привратник сказал, что госпожа отбыла в театр.
Каульман забыл заглянуть в театральную афишу и лишь теперь узнал, что Эвелина сегодня занята.
Он помчался в оперу.
Первым делом он бросился в ложу супруги, но там, кроме компаньонки, никого не было.
Он оглядел из ложи зрительный зал. В партере сидело достаточно клакеров, в одной из лож у просцениума он заметил князя Вальдемара.
Да, князь лучше него знал, что Эвелина сегодня поет.
Затем он спустился в фойе; в театре знали, что господин Феликс – супруг мадам, и его пропустили в уборную Эвелины.
Эвелину он застал уже в театральном костюме, готовой к выходу.
Завидев Каульмана, она отвернулась с выражением досады: «Зачем он мешает ей в ту минуту, когда она готовится исполнять свое предназначение?»
– Я зашел пожелать вам доброго вечера, мадам!
– Могли бы отложить это на завтра.
– Что отложить? Вечер? Ха-ха!
– Не вечер, а пожелания. Ведь вам известно, как я каждый раз волнуюсь перед выступлением.
– Я боялся опоздать. Вы знаете, что цвет общества готов на все, лишь бы достать билет на ваш благотворительный концерт. Вы оставили хоть один для меня? – Господин Феликс был сама любезность и предупредительность.
– Нет, не оставила.
– Ах, отчего же? – воскликнул он, разыгрывая огорчение.
– Оттого, что никакого концерта не будет. Я отказалась от него.
Лицо господина Феликса мгновенно вытянулось.
– Не будете ли вы добры объяснить причину?
– После выступления. А сейчас мне пора на сцену.
С этими словами мадам удалилась из уборной и оставшееся до выхода время провела за кулисами.
Каульман занял место возле другой кулисы, откуда мог видеть и Эвелину и ложу у просцениума.
Эвелина играла слабо и пела тоже посредственно. Ее сковывал страх. В этот вечер она не только плохо интонировала, но и пропускала целые ноты. Было заметно ее волнение.
Но вышколенная клака хлопала ей так, что стены дрожали, а Вальдемар из своей ложи аплодировал, словно ему за это платили больше всех.
После заключительной арии из ложи Вальдемара к ногам Эвелины обрушилась целая лавина венков и букетов.
Эвелина не подняла ни одного цветка и торопливо скрылась в своей уборной.
Каульман вошел туда вслед за ней.
– Почему вы не подняли ни одного из этой груды красивых венков? – спросил он у Эвелины.
– Потому что я не заслужила их. Я чувствую, я знаю, что пела отвратительно.
– Но хотя бы в угоду тому, кто послал эти венки, следовало принять хоть один.
– Ах, так? Вам вправду, хотелось этого?
– Мне?
– Ну, да! Я полагаю, все эти венки от вас?
– О нет! Разве вы не заметили? Все они были брошены из одной ложи. Вы не узнали того, кто занимал эту ложу?
– Я не смотрела туда.
– Князь Вальдемар.
– Ах! Ваш страшный враг, тот, кто стремится вас разорить?
– О, князь очень изменился, он весьма сожалеет о прошлом и теперь он наш лучший друг.
– Наш друг? Чей?
– Как мой, так и ваш.
– Благодарю! Но я отказываюсь разделить эту дружбу.
– Здесь трудно что-либо разделять, мадам! Ведь он мой добрый друг, и для него открыты двери моего дома.
– А двери моего дома закрыты.
– В таком случае я вынужден сообщить вам неприятное известие. Ведь вы закончили свое выступление? Так что вам не опасно волноваться…
– Да, извольте говорить, – сказала Эвелина, сидя перед зеркалом и нежным кремом удаляя грим с лица, – я вас слушаю.
– Вы недолгое время сможете держать собственный дом. Князь Тибальд взят под опеку, а как вы могли подметить своим острым умом, парижский особняк – свидетельство его дружеского внимания к вам. Теперь с этим покончено. Мне же обстоятельства не позволяют снимать для вас отдельные апартаменты, так что в дальнейшем нам придется жить одним домом и, стало быть, естественно и неизбежно, что гости, желанные в моем салоне, будут и вашими гостями.
Эвелина освободилась от роскошною наряда королевы, сняла с головы диадему, с запястий – сверкающие браслеты.
– И вы полагаете, – спросила она через плечо, полуобернувшись к Каульману, – что, если обстоятельства вынудят меня оставить роскошный отель, я не смогу снять в Париже мансарду, где будет дверь, а в двери запор, и что если я пожелаю ее захлопнуть перед кем-либо, то ни один князь на свете туда не войдет!
Каульман решился на крайность. Он больше не давал себе труда казаться любезным.
– Предупреждаю вас, мадам, во Франции существуют неприятные законы, обязывающие жену жить вместе с законным мужем, выезжать с ним, подчиняться ему.
Эвелина в этот момент снимала золотые сандалии. Черные, пронизывающие глаза ее устремились на Каульмана.
– В таком случае я тоже предупреждаю вас, сударь, что во Франции существуют неприятные законы, по которым брак французских граждан, заключенный перед алтарем без гражданской регистрации, не признается властями и считается недействительным.
Каульман вскочил со стула, словно ужаленный тарантулом.
– Что вы сказали?
Эвелина сняла с ноги золотую сафьяновую сандалию. И, стоя в одной сорочке, босая, она бросила роскошные сандалии к ногам Каульмана.
– А то, что вот эти сандалии – еще ваши, но я, мадемуазель Эва Дирмак, принадлежу только самой себе.
– Кто вам это сказал? – изумился банкир.
– Тот, кто дал вам совет так поступить со мной.
Каульман оперся о стол: голова у него шла кругом.
– А теперь, – Эвелина взмахнула рукой, – впредь не забывайте, сударь, что это уборная мадемуазель Дирмак!
Не дожидаясь повторных напоминаний, Каульман схватил свою шляпу и кинулся прочь.
Бегство его было так стремительно, что ему уже и не остановиться, пока где-нибудь он не упадет без сил.
Полный крах. Спасенья ждать больше неоткуда.
Все складывалось так, как предсказал священник.
Еще вчера он ворочал миллионами. Отовсюду ему предлагали сотни миллионов, а завтра к нему же потянутся тысячи рук, чтобы весь капитал, включая наличность, расщепить на атомы, миллионы раздробить в гроши.
Нет иного выхода, как застрелиться или запустить лапу в акционерную кассу, загрести, сколько можно утащить с собой, и бежать, бежать куда глаза глядят.
Каульман предпочел последнее – он сбежал.
Эвелина воспринимала окружающее, как человек, которому после неудачно сложившейся жизни суждено родиться заново.