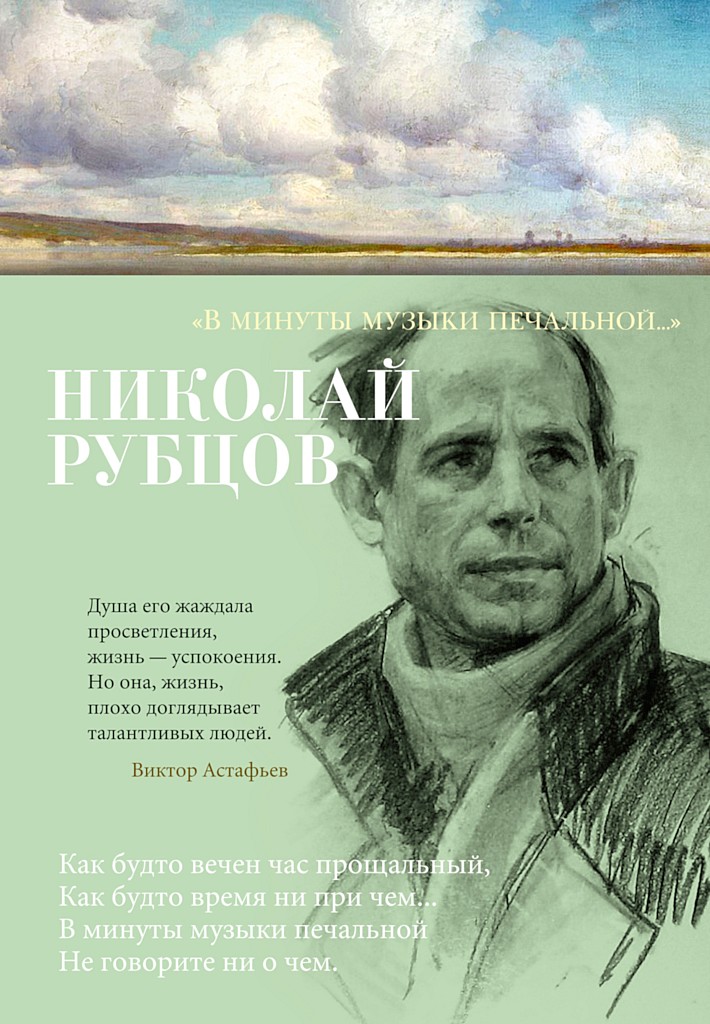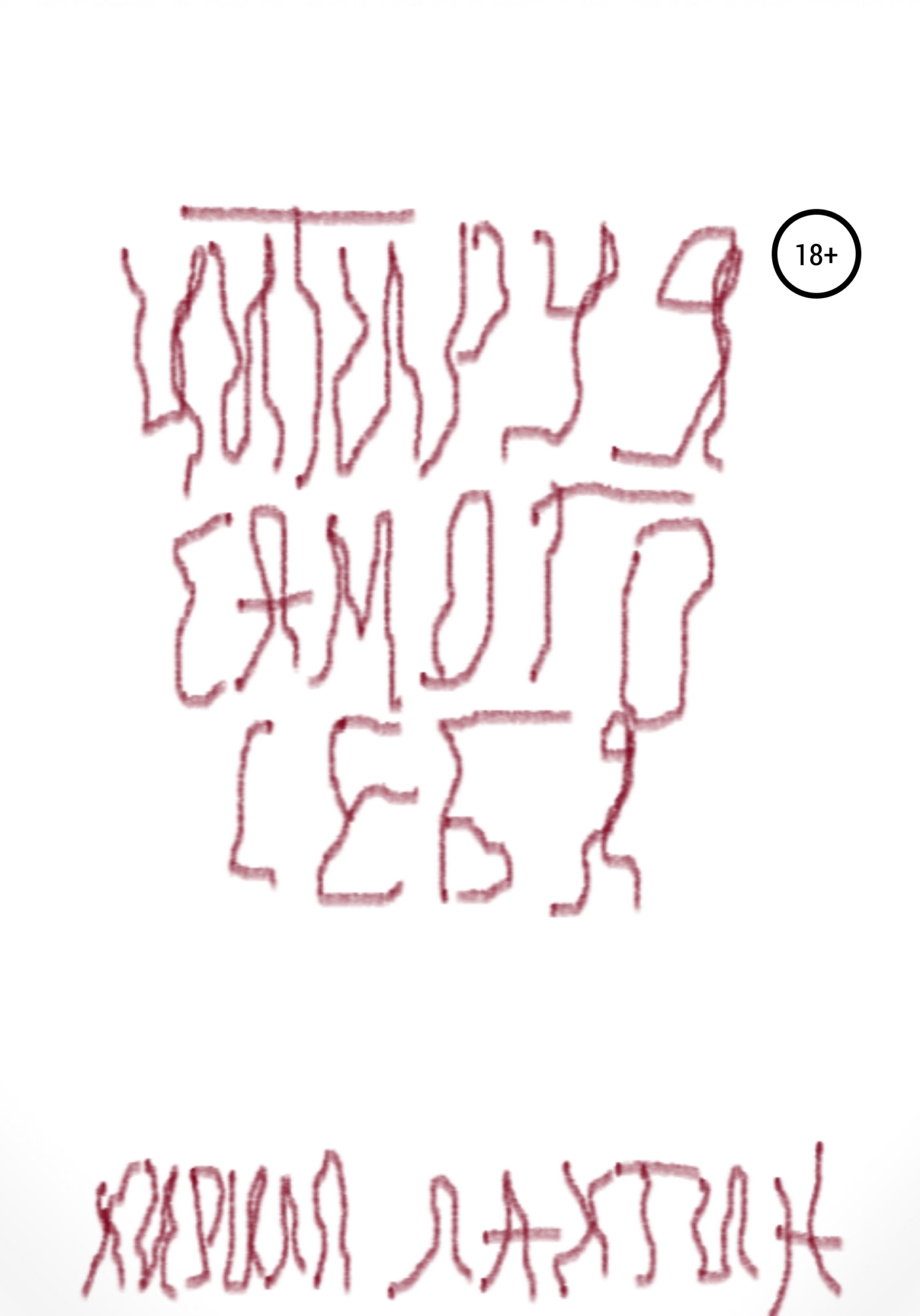хоть на минуту вздохнуть свободно, не озираясь во все стороны, томительно не чувствуя за собой зорко следящего глаза; бледно-синеватый огонь, что в темную ночь беспокойно пробегает по топкому болоту… Каждый человек – враг бродяги. Как бы ни наболела душа не помнящаго родства (а в том то и беда, что и у не помнящего родства душа есть) в бесконечном странствовании, как бы назойливо ни звал его (не рожденного в самом деле в сосновом бору, не крещенного в дождевой воде) внутренней голос туда, где живет люд Божий, где смех и говор раздаются, где горе и радость переживаются вместе, где есть труд, заботы, цель определенного существования, – бродяга должен глушить в себе этот неустанный, безжалостный голос. Проклятия бродяги должны замереть в тех беспредельных степнинах и лесах, что изо дня в день бесцельно меряет он, его жгучие, выстраданные слезы должны падать на безответную почву. В виду не помнящего родства пролегает широкая дорога, по сторонам той дороги лежат города, села и деревни, там хоть в могилах-то, на погостах, нет никому отказу; где же застигнет его, общественного отверженца, час смертный, не знает он; одно должен ведать бродяга, что никто не подслушает его последнего вздоха, ничья родная рука не закроет его потухающих очей. Только небо будет свидетелем, как умирал он, общественный отверженец, да, быть может, почуяв запах мертвечины, сбегутся его же братья – голодные волки… Таково предопределение бродяги: иди и иди! иди голодный, изнеможенный, усталый, иди под осенним дождем, под июньским припеком, под зимним буруном, глуши свои страдания, слезы и проклятья, только иди, да стерегись людского глаза…
Много условий требуется, чтобы выработать бродяжничество в общее типичное явление. А что для нашей жизни оно и есть такое явление, то это факт, который едва ли кто будет опровергать, и замечательно, что этот факт принадлежит одним только русским – если из других народностей попадаются не помнящие родства, то как крайнее исключение. Татары, черемисы, вотяки, чуваши и проч. почти никогда не бегают; единственная вещь – военная служба, и то в весьма редких случаях заставляет их примыкать к многострадальному братству не помнящих родства. В бродяжничестве сказался свой национальный оттенок. Многие думают искать причин бродяжничества исключительно в крепостном праве, но это неверно. Правда, крепостное право доставляло обильный, никогда не оскудевший материал для бродяжничества: барские усадьбы, фабрики, застольные и передние пополняли постоянно, взамен убылых, в ряды не помнящих родства, но тем не менее корней бродяжничества надо искать глубже, они залегли в русскую жизнь исстари, в давние времена, когда не существовало еще крестьянского прикрепления. Из десяти самых старых челобитен восемь по крайней мере оканчиваются скорбной угрозой челобитчиков – «брести розно» – в этом челобитчики видели единственную возможность и достигнуть желанного и, в случае не достижения, избавиться от неблагоприятных условий, напиравших на них на старых местах. В какой мере приводилась в исполнение эта скорбная угроза, укажут вам все исторические акты: от литовских погромов, от татарских набегов, от приказных притеснений, от религиозных преследований, от воевод и бояр народ бежал тысячами и в глубине темных лесов Севера, в бесконечных степнинах украйн искал новых поселков; громадные шайки, державшие в страхе целый край, пополнялись преимущественно этими горемычно-бездомовными искателями новой жизни; целые города, села и деревни поднимались разом с своих мест и, как пчелы из разоренного улья, разлетались в разные стороны, разносили свое горе по всему лицу неласковой родины… С течением времени, с изменением условий, при которых слагалась жизнь, должна была, конечно, видоизмениться и самая форма протеста; но его суть, его типичный характер в лице не помнящих родства – дошли и до наших дней; все эти Чудилы, Ходоки, Иваны, не помнящие родства, Таньки-Придорожницы, Маньки-Кочкарницы и проч. по прямой, нисходящей линии происходят от тех, кого горькая доля целыми массами выгоняла из родных мест, от тех, кто впервые вздумали и привели в исполнение свою скорбную угрозу «врозь брести». Последующее бродяжничество есть только мелкая монета прежнего, более крупного явления, но и на ней мы можем проследить все те оттенки, все те краски, которые так резко бросались в старой нашей жизни.
В бродяжничестве, как в исторической, стародавней форме, выразилось пассивное, рядом тяжелых годин и испытаний выработанное мужество народа, какая-то тоскливая, страдальческая неумелость его в создании таких форм быта, от которых незачем и некуда было бы бежать. На бродяжничество же мы можем указать как на доказательство живучей способности народа – в сознании неблагоприятных условий для развития, постоянно сохранившегося стремления к протестации и отсутствия данных для перехода от отрицательного сознания к положительной работе. Правда, требовалось много мужества для тех масс, что, поднявшись с родных пепелищ, пускались в бесконечное странствование, не останавливаясь пред перспективой ожидавших их лишений и страданий, но еще более потребовалось бы мужества и уменья, чтобы остаться на старых местах и вместо, чуть ли не даром перенесенных страданий и лишений изменить жизнь настолько, чтобы каждая личность могла с удобством приладится – к ней. А этих-то качеств: активного мужества и уменья и не было в массах…
Итак, бродяжничество перешло к нам преемственно от стародавних времен, только массовое «брести розно» измельчало, выродилось, явилось в форме одиночных не помнящих родства. Когда же окончательно это явление сделается историческим достоянием?
Ну, на это пускай отвечают другие, а мы возвратимся к давно оставленным нами бродягам Ходоку и Чудиле.
Говорю: судя по наружным признакам, дела Ходока и Чудилы были в блестящем положении: в одежде их проглядывал своего рода шик; в карманах их имелось по нескольку десятков целковых денег. Как Ходок, так и Чудила были еще народ весьма молодой: первый лет двадцати пяти-шести; второй – за тридцать с небольшим. (Вообще замечу: большая часть бродяг попадается между 25 и 40 годами возраста, что и понятно, юность много надеется: несмотря на тяжесть давления, она рассчитывает преодолеть его, избыток крови в ней парализирует впечатления, оставляемые неблагоприятными условиями; старость же притупляет чувство боли, к нему привыкают, корни пускаются слишком глубоко, запас сил, потребных на дальнюю дорогу, истрачивается; достигнуть же дней маститых в самом бродяжничестве нет возможности: острог, поселение и преждевременная смерть страшно опустошают ряды не помнящих родства.) Как Ходок, так и Чудило смотрели бойко, людьми бывалыми, привыкшими к жизненным передрягам, такими людьми, у которых на лбу написано: «С нас-де взятки-то гладки!» По наружности они резко отличались друг от друга: Ходок – блондин, с серыми глазами, с лицом скорее симпатичным, особенно когда отбрасывалось несколько напускное куражество. Губы и улыбка были славные у Ходока: