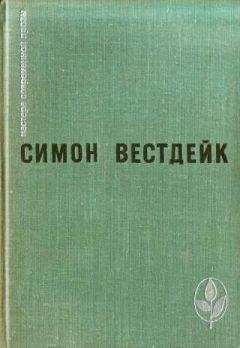— Но может быть, работа на кухне вам не совсем по душе? Ведь вы преподаватель, не так ли? Не лучше ли вам работать в библиотеке?
— О, как вам угодно, — произнес Схюлтс с легким поклоном. — Мне очень нравится в кухне, но…
— Наш библиотекарь тоже преподаватель, как вы, очень образованный человек. Вы нашли бы с ним общий язык, но если вы предпочитаете кухню, то разумеется…
Тут он начал понимать, что своими речами удивляет Схюлтса все больше и больше, под маской мелькнула затаенная улыбка, и он сказал все в том же быстром темпе:
— Вы, наверное, удивлены, что я так разговариваю с вами, но мне поручили узнать, нет ли у вас каких-нибудь пожеланий…
Схюлтс побледнел. Наконец все прояснилось. Загадка разгадана: через полчаса его расстреляют без суда, а этому человеку дано задание максимально скрасить оставшиеся полчаса. Разумеется, это не принято в СД, но, возможно, для него, как преподавателя немецкого языка, сделано исключение. Комичный вахмистр заметил реакцию Схюлтса, но ограничился пристальным взглядом, не задавая новых вопросов.
— Не найдется ли у вас сигареты? — с трудом сказал Схюлтс, облизывая сухие губы.
— Конечно, извините меня. — Немец протянул пачку сигарет.
Когда Схюлтс взял сигарету, он дал ему прикурить и сказал:
— Оставьте эти сигареты себе. Пожалуйста, берите. Не благодарите. Захотите курить — курите спокойно, только не в камере, достаточно сослаться на меня, скажите только: обершарфюрер, можете сказать также помощник начальника, разрешил. Если не будете работать в кухне — мы подумаем, это занятие не для вас, — то при желании можете делать короткие прогулки во дворе или посидеть на солнце, скажите только, что так распорядился обершарфюрер, и тогда не будет никаких осложнений. Если вы пожелаете получать сигареты или сигары из дому, то я дам указание передавать их без задержки. Вообще иногда случается, что посылки доставляются с опозданием, но у нас, к сожалению, не хватает персонала для обслуживания такого большого количества заключенных…
— Скажите, пожалуйста, — произнес Схюлтс, лицо которого снова приобрело нормальный цвет, ибо из слов обершарфюрера ему стало окончательно ясно, что его не расстреляют, — раз уж вы разрешили мне высказать свое желание, могу ли я узнать, что меня ждет, когда меня вызовут на допрос и тому подобное?
— Конечно. К сожалению, такие дела всегда затягиваются, это связано с войной. Все силы направлены на фронт, а тыловики часто работают за троих, а то и за четверых; можно жаловаться, но лучше уж мириться с этой бедой; лично я, как национал-социалист, даже и не считаю, что это действительно беда: надо нести ответственность за все, что связано с порученной должностью. Но для заключенных это влечет за собой много неудобств…
— Я не жалуюсь, господин обершарфюрер, — сказал Схюлтс, вежливо улыбаясь и пуская сигаретный дым в сторону обершарфюрера. — Поймите меня правильно, тут нет ничего спешного, но неопределенность…
— Вот именно, — согласился тот. — Неопределенность всегда страшнее всего. Случилось так, что тот, кто должен был вас допрашивать, не только работает за троих и четверых, но еще и уезжал на месяц в Берлин. Три дня тому назад он вернулся, и теперь скоро подойдет ваша очередь.
— Очень приятно слышать, — расплываясь в улыбке, сказал Схюлтс. — Значит, мне нечего волноваться…
Обершарфюрер взял со стола какую-то бумагу и переложил ее с места на место.
— Я не в курсе вашего дела, но вам, конечно, нечего волноваться. Через несколько дней, самое большее через неделю вас допросят. Чувствуйте себя здесь как дома; вы можете работать где хотите и сколько хотите, в библиотеке, в канцелярии, если желаете…
У Схюлтса создалось впечатление, что он может даже реорганизовать тюрьму, если пожелает. Но жест обершарфюрера навел его на мысль, что собеседник тоже, вероятно, перегружен работой, и он встал. Теперь он знал, на каком он свете, Немецкое небо наконец открылось для него. Немецкий бог очень выразительно и недвусмысленно вильнул хвостом в его сторону. Ему нечего волноваться; напротив, из всех обитателей Отеля у него было для этого меньше всего оснований. С самой светской улыбкой на своем небритом лице он произнес:
— Благодарю вас, господин обершарфюрер! Но если моя очередь подойдет через неделю, то, видимо, нет смысла приниматься за новую работу. Я буду спокойно сидеть в своей камере, делать короткие прогулки. Замечательно! Благодарю вас!
— Как вам угодно, как угодно. — Обершарфюрер тоже поднялся: он был маленький, стройный и очень подвижный; его комичный лоб производил теперь впечатление большой собранности и деловитости. — Во всяком случае, я вычеркиваю вас из списка рабочих кухни, оставаться там вам незачем, небольшую потерю в питании вы, очевидно, сможете скоро наверстать.
— Вот как! — Шире улыбнуться Схюлтс уже не мог; он пытался, но ничего не получалось. — Итак, до свидания! Большое спасибо!
Он протянул руку, и, пока обершарфюрер пожимал ее, чуть-чуть сморщившись от боли, так как рукопожатие Схюлтса оказалось слишком сильным, он держал руку на весу, что при иных обстоятельствах и у лица другого пола могло сойти за предложение поцеловать ее. Затем он вышел из-за стола и проводил Схюлтса до двери.
— До свидания!
— До свидания, обершарфюрер! Еще раз благодарю.
— Не за что, не за что. До свидания…
— До свидания!
Танцующей походкой Схюлтс возвращался в камеру, чувствуя себя свободным человеком. Только теперь идиллия стала действительностью. Его балуют! Разрешили курить сигареты во дворе, бродить по коридорам и покровительственно похлопывать коридорных по плечу. Он стал суперкоридорным. Впереди скорый допрос и освобождение; он снова увидит свою комнату, Безобразную герцогиню, и юфрау Схёлвинк, и своих учеников, и коллег, и Ван Дале, и трех подпольщиков. Они все на свободе, в безопасности. Его жизнь опять начнется с того момента, в который прервалась полтора месяца тому назад… Проходя по своему коридору с сигаретой в зубах, он подумал, не идти ли ему по дорожке, по запретной дорожке, чтобы закрепить только что полученные права, но, поразмыслив, решил не лезть на рожон. Он остановился перед своей камерой, лицом к двери, с сигаретой во рту. Стоять так приходилось не раз; если поблизости не было вахмистра, надо было ждать, пока кто-то из них не появится на площадке. За дверью слышались голоса; ну и удивятся же сейчас его друзья! Сзади раздались шаги, и один из коридорных спросил:
— Ведь ты работаешь на кухне?
— Уже нет, — ответил Схюлтс, отшвырнув окурок.
— Били?
— Да нет.
У него не было никакого желания делиться с коридорным своей радостью. Коридорный, пожав плечами, пошел дальше, затем появился вахмистр и впустил его в камеру. С сияющим лицом он сказал ему: «Спасибо!»; еще не успели его друзья снова сесть, как он радостно выпалил:
— Мне больше не надо ходить на кухню, братва!
— Почему? — удивился Вестхоф, а Уден вытаращил свои круглые глаза. Зееханделаар держался в стороне и первым сел на табурет, стоявший-поближе к двери.
— Меня освободили от работы и скоро вызовут на допрос!
— Тебе так и сказали?
— Я могу делать все, что хочу, могу ходить на прогулки и прочее. Они были страшно любезны со мной, вернее, он был любезен, он — обершарфюрер, большой начальник, угощал меня сигаретами и предлагал реорганизовать библиотеку…
— Да, тебе здорово повезло, — сказал Вестхоф.
— Надо же, — промямлил Уден.
— За такие любезности они обычно требуют чего-то взамен, — пояснил Зееханделаар с саркастической улыбкой человека, который в мире, готовом раздавить его самого, не видит надежды и для другого.
Схюлтс тотчас повернулся к нему:
— Пока я этого не заметил; как бы там ни было, а я здесь. Мне думается, что произошло какое-то недоразумение, ибо должен признаться, что сам ничего не понимаю. Сначала я решил, что это западня, чтобы заставить меня признаться или что-то в этом роде, но теперь я так не считаю…
— Возможно, перепутали документы, — предположил Зееханделаар. — Такое случается: один мой коллега, тоже бухгалтер, некий Дирк Тёнис, с одним «с», был осужден за проступок некоего Доуве Тёнисса, который был даже не бухгалтером, а служащим конторы по очистке города.
— Похоже на анекдот, — сказал Схюлтс, неприятно задетый тем, что кто-то другой высказал предположение, которое неоднократно приходило ему в голову. — Признаюсь, я никогда раньше не слышал о подобных случаях. Такие ошибки не в немецком стиле. Но я учту это…
— А за что ты сидишь? — не скрывая подозрительности, спросил Зееханделаар.
— За преднамеренное убийство, — быстро ответил Схюлтс и пошел к вешалке снимать арестантскую одежду. Но потом передумал: надо поберечь свой костюм. Он уже привык к своей спецовке и не видел в ней ничего позорного.