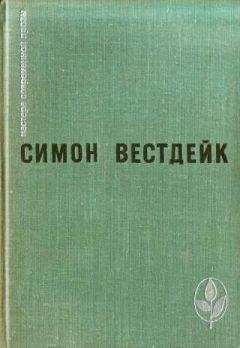Доехав до Маурицкаде, шофер свернул вправо и вскоре остановился у здания казарменного вида. Схюлтс вспомнил, что его провожатый произнес слово «заехать». Машина въехала во двор; Схюлтс увидел, как в конюшню заводили великолепную гнедую лошадь: «Петер Лорре» встал на подножку машины, устремив взгляд своих темных лягушечьих глаз на дверь; вскоре появился невысокий, стройный военный и заторопился к машине. «Петер» пошел ему навстречу и что-то сказал; шофер открыл переднюю дверцу, военный сел, а «Петер» снова занял место рядом со Схюлтсом. Схюлтс не ожидал, что этот большой чин обратит на него внимание, но ошибся: офицер обернулся и протянул ему руку: «Вернике». Схюлтс произнес «Схюлтс» и пожал руку. Первым впечатлением от вновь прибывшего были живость и активное любопытство. Но еще когда он шел по двору, у Схюлтса возникли другие впечатления. Его внешний вид наводил на мысль об Австрии. Изящная походка, усики, какая-то томная бледность, к тому же изумительно подогнанная форма с фуражкой, слегка сдвинутой набок: кому этот вид не напомнит времена кайзера Франца-Иосифа, тот ничего не смыслит в германских расах и государствах. Схюлтс, конечно, не думал, что Вернике действительно был австрийским офицером: слишком молод. Впрочем, он вполне мог быть и баварцем; во взгляде его темных глаз явно было что-то альпийское, и, наверное, голова его настолько же кругла, насколько вытянута голова Схюлтса. Такой тип можно встретить и на парижских бульварах или в Бухаресте: Вернике везде был бы на своем месте, только не в рамках германского кровного братства.
Пока Схюлтс размышлял о расах и формах черепов, они ехали по направлению к Бинненхофу. «Петер Лорре» углубился в какой-то документ, который, видимо, не имел отношения к Схюлтсу, так как тот при желании мог бычитать его тоже. Схюлтса это не интересовало. Если раньше его одолевали сомнения, то рукопожатие Вернике нельзя было истолковать иначе как знак особого расположения высших кругов СД, неизвестно на чем основанного. Убийство Пурстампера не раскрыто, Маатхёйс и Ван Дале не арестованы. Учитывая это, он напряженно готовился к предстоящей беседе. Еще до соответствующего замечания Зееханделаара он задумывался над тем, чего от него потребуют взамен всех этих проявлений дружелюбия. Но для чего им понадобилось столько возиться с ним? С такой мелкой сошкой, как он? Скорее всего, они собираются вздернуть его за ноги недалеко от того места, где эта участь постигла Корнелиса де Вита[55] и мимо которого в данный момент проезжала машина.
В Бинненхофе они остановились у одного из подъездов со стороны площади. Вернике мгновенно исчез. «Петер Лорре» повел Схюлтса по широкой лестнице наверх, и, когда он увидел это освященное историей место во вражеских руках[56] на него нахлынули противоречивые и отчасти мучительные чувства. Взад и вперед сновали военные с бумагами в руках, на лестнице стояла молодая дежурная, приветствовавшая солдат назойливым «хайль Гитлер», а на площадке висел портрет самого фюрера. Точно такой же портрет был и в комнате, где Схюлтса оставили одного, — маленькое помещение с видом на Бинненхоф. Перед окном стоял небольшой стол, покрытый стеклом, с телефоном, по краям стола — два вращающихся стула. Он сел спиной к фюреру и подумал, сможет ли он в случае необходимости обратить себе на пользу гипнотическую силу этого взгляда. Наверное, сможет, если начнет драть глотку, как Гитлер, сидя прямо под его портретом. Фюрера он всегда считал комедиантом, и ему казалось психологическим законом то, что комедианты не только хорошо имитируют сами, но и легко поддаются имитации другими. Однако для этого надо было иметь другую внешность. Вернике, с его усиками и темными сверкающими глазами, подошел бы. Представив себе облик оберштурмфюрера, он вспомнил, как тот во время короткого разговора с «Петером Лорре» так же надменно выпятил верхнюю губу, как это делал Гитлер в кинохронике, когда открывал Олимпийские игры.
Вошел Вернике и повесил фуражку на вешалку. Вставшему Схюлтсу он приказал сесть и сам опустился на второй стул. Схюлтс заметил, что у него оттопыренные уши и немного низковатый лоб, а коротко подстриженные волосы отнюдь не увеличивали томное обаяние, которое напоминало о временах кайзера Франца-Иосифа. Однако в целом лицо не производило неприятного впечатления: глаза наряду с любопытством излучали также и ум, в них светился огонек мечты и фантазии; с длинными волосами и без формы он мог бы сойти за художника, живописца наиболее вольного мюнхенского периода, времен Ведекинда[57] и Эдуарда Кайзерлинга[58] и клуба «Одиннадцати палачей». На стол прямо перед собой он положил кожаную папку. Схюлтсу он предложил сигарету, и тот увидел, что пачка, положенная рядом с папкой, была наполовину пуста.
— В последнее время мне редко перепадала сигарета, — сказал он, прикуривая у Вернике.
Тот улыбнулся и тоже закурил.
— Теперь можете наверстать упущенное. — Он пододвинул пачку пальцем на несколько сантиметров поближе к Схюлтсу. — Надеюсь, что пребывание в тюрьме не показалось вам слишком тягостным?
— О нет. Только вот неопределенность…
— Я смог заняться вашим делом лишь в последнее время. Вам говорили, что я был в отъезде?
— Да, помощник начальника говорил мне.
— Я нашел для вас час времени и надеюсь наконец уладить ваше дело… — Зазвонил телефон, Вернике недовольно вздернул верхнюю губу, прокричал в трубку — Нет, я занят! — и, обращаясь к Схюлтсу, продолжал: — Сначала мне хотелось бы узнать, имеете ли вы хоть малейшее представление о том, за что вас арестовали, господин Шульц?
Схюлтс задумался. Этот первый вопрос был и легким и трудным одновременно, но ему, безусловно, следовало отнестись к нему, как к легкому, и он ответил:
— Нет, я не имею об этом ни малейшего представления.
Вернике смотрел на него с любопытством, даже с легкой иронией.
— Вы пробыли в тюрьме около семи недель; наверное, иногда вам… вам ведь приходилось задумываться…
— Разумеется, — поспешил признаться Схюлтс. — Всякое приходило в голову, но… нет, не могу сказать, чтобы я нашел какой-то определенный повод, противозаконный поступок или нечто подобное. Конечно, я против национал-социализма, но так думают почти все голландцы, значит, причина не в этом…
Схюлтсу казалось нелишним раз и навсегда высказать свои взгляды.
— Почти все голландцы — небольшое преувеличение, — засмеялся Вернике, обнажив белые зубы под усиками. — Но хотя я и не согласен с вами в этом пункте, я вынужден все же согласиться с вашим выводом; вас арестовали не за то, что вы противник национал-социализма. Я… — Снова зазвонил телефон; на сей раз Вернике сказал крайне резким тоном: — Не мешайте мне, у меня важный разговор… Да, — продолжал он. — Итак, причина, не повод, а непосредственная причина вашего ареста заключается в следующем. — Он открыл папку и стал перелистывать дело. — Вас могли арестовать еще три года тому назад. — Он взял бумаги в руки и изредка заглядывал в них. — Спустя неделю после окончания войны здесь, в Голландии, двадцатого мая тысяча девятьсот сорокового года вы сказали своим ученикам: «Извините меня, что я учу вас этому… Rottahl…» Как бы это поточнее перевести?
— Rottaal? — повторил Схюлтс. — Да, я так выразился. Это соответствует немецкому «Drecksprache»… Буквально означает «гнилой, вонючий язык»; эти яркие эпитеты вы вряд ли занесете в протокол…
Вернике опять засмеялся, полуиронически, полуодобрительно. Потом он стал серьезным.
— Как бы там ни было, смысл сказанного вами ясен. И как вы только могли, господин Шульц, сказать такое вашим ученикам! Я допускаю, что любой другой учитель немецкого языка мог под впечатлением поражения позволить себе подобное высказывание, но вы, сын немца, которому немецкий язык должен быть дорог не только как профессия, но как… наполовину родной язык… Не кажется ли вам немного мелочным оскорблять этот язык за ошибки, которые, по вашему мнению, допущены немцами в политике?
— Возможно, — покраснев, сказал Схюлтс. — Но согласитесь, господин Вернике, что двадцатого мая тысяча девятьсот сорокового года у нас, голландцев, оставались лишь мелочные средства. Я не хочу сказать, что я и сейчас считаю это свое выражение удачным. Но поставьте себя на мое место. Я всегда любил Германию, половина моих родственников немцы, я часто бывал в Германии.
— Да, это все мне известно, — перебил Вернике. — Но с тридцать третьего года вы больше не ездили в Германию?
— Ненадолго в тысяча девятьсот тридцать четвертом.
— Жаль. Ваши впечатления от Германии односторонни и ограничиваются знанием устаревшей теперь Германии, господин Шульц. Мы все любили эту старую Германию, пока не было ничего лучшего. Вы — противник национал-социализма; но если бы вы подольше поездили по Германии в тысяча девятьсот тридцать четвертом или тридцать пятом годах, то воочию могли бы убедиться в том, насколько сильнее, оптимистичнее, жизнерадостнее стала немецкая молодежь. Тогда вы заметили бы происшедшие перемены, коренные изменения во взглядах: люди сомневались во всем, мир стал ветхим и шатким — и вдруг нарождается нечто — нечто новое! — и люди понимают, что жизнь спасена. Я изучал археологию, в молодости немного писал, находился под сильным влиянием экспрессионизма, я как никто другой всей душой пережил тот больной период — люди увлекались и мечтали, стремились улучшить мир, обновить искусство и вдруг поняли, что все это бесполезно, и удивились, почему не понимали этого раньше. Однажды фюрер сказал: нужно обновить Германию до основания и, чтобы добиться этого, надо уничтожить старую Германию…