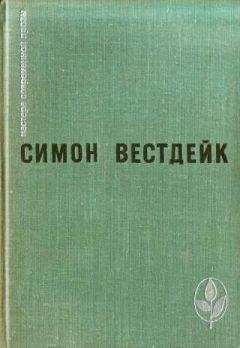Вернике с любопытством посмотрел на Схюлтса живыми темными глазами, которые не смогли выдержать взгляд серо-голубых, раскосых, немного настороженных глаз Схюлтса. Сторонний наблюдатель мгновенно определил бы, кто из них двоих немец, несмотря на военную форму Вернике и небритые скулы Схюлтса. Судьбе было угодно, чтобы германец обучал негерманца германской независимости от германского расового надувательства и политической коррупции. Не дав обер-штурмфюреру вставить слово, Схюлтс спросил:
— Вы упомянули о непосредственной причине моего ареста. Не могу ли я узнать…
— Мне ничего не стоит сообщить вам это, — со вздохом произнес Вернике, — но это не играет никакой роли, мне даже неприятно упоминать о таких пустяках в серьезном разговоре о глубоких идеологических проблемах. Вы, наверное, уже поняли, господин Шульц, что вас и так уже продержали в тюрьме слишком долго. Вам остается выполнить две-три формальности, и сегодня же можете идти домой… — Вздохнув, он открыл папку и вынул листок бумаги. — В разговоре с одной дамой вы якобы оскорбляли фюрера. Вы сказали, как записано здесь, что фюрер не разбирается в национал-социалистском учении, действует опрометчиво, что он, собственно, полоумный…
— Простите, — сказал Схюлтс, — но ведь вы сами не верите этому, господин Вернике? Эта дама, как часто бывает с дамами, слишком тенденциозно истолковала мои слова. Тогда я говорил о моем старшем брате и, отмечая его характерные особенности, сказал, что действует он лучше, чем думает, что ему, чтобы эффективно служить национал-социализму, не обязательно понимать его, и что он, видимо, до конца национал-социализм и не понимает. В заключение этой характеристики я мимоходом заметил, что фюрер, видимо, принадлежит к тому же психологическому типу…
— Я и сам уже думал, что тут какое-то недоразумение, — сказал Вернике и спрятал бумагу в папку. — Лишь ваши слова о rottaal немного настораживали. Но я полагаю, что в последние годы вы не украшаете ваши уроки подобными выражениями…
— Конечно, нет, для этого я слишком осторожен.
— Да… Итак, господин Шульц, под свою ответственность я имею право разрешить вам жить и работать как свободному гражданину Нидерландского государства. У меня создалось впечатление, что я об этом не пожалею. Я ставлю лишь одно условие. Поймите меня правильно: я не собираюсь ни сегодня, ни завтра превращать вас в нациста, обращать в свою веру или толкать на отступничество…
— Или на предательство, — перебил Схюлтс.
Вернике вздрогнул и сделал движение, словно собрался нырнуть под стол. Но он взял себя в руки и выдержал устремленный на него холодный взгляд Схюлтса.
— Итак, этого я не хочу. Совершенно определенно не хочу. Вы вольны думать и даже говорить о национал-социализме, что вам заблагорассудится, разумеется в рамках дозволенного, так, как вы сейчас разговаривали со мной. Но мне хочется, чтобы вы занимались теорией национал-социализма немного больше, чем в последние годы. Почитайте что-нибудь об этом — Готфрида Бенна[59], например, или Юнгера[60]; Юнгер, по-моему, под сильным влиянием нигилизма, но Бенн — превосходный писатель, блестящий стилист…
— Могу обещать вам это, — заверил Схюлтс, в книжном шкафу которого стояли и Бенн и Юнгер. Он решил прочесть первую строку из Бенна и последнюю из Юнгера.
— Я также придаю большое значение тому, чтобы вы поддерживали со мной связь. Когда будете в Гааге, позвоните мне, и мы снова сможем непринужденно побеседовать, или пишите мне. Я дам вам свой адрес…
Он взял карточку и нацарапал адрес. Схюлтс прочел: «Оберштурмфюрер СС Питер Вернике, Плейн 1: BDS, Гаага, телефон 171439, Гаутинг 891, через Мюнхен». Итак, все-таки Мюнхен, он не ошибся.
Вернике хотел дать указание о немедленном освобождении Схюлтса, но тот предпочел провести ночь в тюрьме. До Доорнвейка ему уже все равно сегодня не добраться, кроме того, он хотел сначала побриться и постричься. Вернике позвонил в тюрьму и приказал освободить Схюлтса завтра утром, прислав ему перед этим парикмахера; последнее распоряжение было уточнено до мелочей, включая время: 8 часов.
— Итак, до свидания, господин Шульц, — сказал Вернике, вставая и протягивая ему руку. — Когда приедете в Гаагу, надеюсь снова побеседовать с вами. Лицо, сопровождавшее вас сюда, ждет внизу. Но перед уходом загляните в одну из соседних комнат, там находится некто, желающий с вами поговорить.
Новая неожиданность. Что предстоит ему? Не посылает ли его Вернике, так мягко разобравший его дело, к более строгому и высокому начальнику, который начнет орать на него и требовать подписи под статьей для «Фолк эн фадерланд»? Хотя он уже приобрел некоторый иммунитет против подобных эмоций, все же он чувствовал себя не в своей тарелке, когда шел следом за оберштурмфюрером по коридору; тот отворил перед ним одну из дверей и с многозначительной улыбкой велел зайти в эту комнату. Потом он двинулся дальше, не обращая больше внимания на Схюлтса. Схюлтс в нерешительности остановился, затем, толкнув дверь, открыл ее пошире, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Он все же попал в западню; спуститься вниз, чтобы вместе с «Петером Лорре» убежать в тюрьму, невозможно. Дверь была уже открыта, и он ждал, что его сейчас поторопят резким окриком; его взгляд упал на военного, стоявшего, заложив руки за спину, и смотревшего на него. В комнате было темновато, и, только переступив порог, он узнал своего брата Августа.
Схюлтс не испугался. Он спокойно разглядывал фигуру брата, постепенно выступавшую из темноты. Он увидел, что Август постарел, что у него на лбу глубокий шрам, а на мундире такая же медаль, какую носил маленький светловолосый вахмистр в тюрьме, только побольше и покрасивее. Механически он протянул руку; рука брата показалась жесткой и холодной.
— Ты?
— Да, — ответил Август Шульц, не собираясь ни сесть, ни предложить стул ему. Они находились в маленькой комнатушке с портретами на стенах.
— Значит, ты знал, что я сижу в Схевенингене?
— Мама показала мне твое письмо две недели назад. Я как раз был в отпуске, послезавтра уезжаю обратно. Принимая во внимание, что мне присвоили звание оберштурмфюрера и наградили крестом с дубовой ветвью и мечами, я могу позволить себе некоторые вольности. Мне удалось добиться, чтобы Вернике, с которым я служил на Восточном фронте, занялся твоим делом. Дело пустяковое, но при иных обстоятельствах все это могло бы тебе дорого обойтись.
— Спасибо, — смущенно поблагодарил Схюлтс.
— В дальнейшем будь осторожнее; им о тебе все известно, ты сам убедился…
— Да, им все известно, — подтвердил Схюлтс.
Август насмешливо улыбнулся.
— Сначала я подумал, что ты взялся за нелегальную работу, мне казалось, что это в твоем духе.
— Правда?
— Твое письмо маме было очень тревожным. Мы все решили, что ты совершил преступление, за которое тебя расстреляют…
— Я немного нервничал в камере…
— Вернике был на высоте?
— Вполне.
— Обычно в Голландию посылают не лучших из нацистов, но Вернике ничего, скажу я тебе.
— О да, очень даже симпатичный человек и освободил меня самым приятным образом, при единственном условии — изучать национал-социализм и изредка звонить или писать ему, чтобы держать его в курсе моих успехов…
— Простая формальность. Он должен застраховать себя на случай, если ты натворишь новые глупости, чего ты, надеюсь, не сделаешь. Он обещал освободить тебя, если ты произведешь на него благоприятное впечатление…
— Без компенсации?
— Без компенсации. Ты, наверное, подумал, что тебе предложат сделку…
Хотя лицо Схюлтса было освещено, а лицо его брата нет, постороннего сразу же поразила бы более видная внешность последнего. Лицо Августа Шульца было таким выразительным, до такой степени красноречивым и пластически совершенным, что казалось почти бессмысленным — бессмысленным из-за избытка смысла, причем смысла, понятного с первого взгляда. Это роднило его лицо с мордами животных; и действительно, в физиономии Августа было что-то от животного, от барана — блестяще стилизованный под человека баран. Длинный острый нос с горбинкой, раскосые, как у брата, глаза, но тяжелее и категоричнее, выражавшие вместо мечтательного лукавства железное самодовольство, тонкий рот со слишком маленькой нижней губой, светлые вьющиеся волосы — недоставало лишь двух изогнутых рогов, чтобы представить себе могучее и глуповатое животное, тотем первобытных народов в маскарадном костюме эсэсовца. Лицо Схюлтса было гораздо неопределеннее, загадочнее, человечнее. У него было лицо, у Августа же — характерная маска, не менявшаяся при разговоре и не выражавшая никаких чувств, кроме безоговорочной готовности к действию в его наиболее примитивной форме, а также некоторое презрение к тому, кто может воспротивиться этому действию или осудить его. Это презрение выразилось в складках около его рта, когда он сказал: