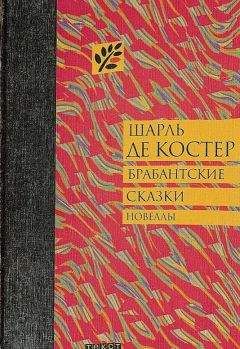Но Филипп не смеялся.
Он все время ломал себе голову над тем, как свергнуть с английского престола великую королеву Елизавету и возвести Марию Стюарт[207] . Он писал об этом обедневшему, запутавшемуся в долгах папе римскому[208] , и папа ему на это ответил, что ради такого дела он не задумываясь продал бы священные сосуды храмов и сокровища Ватикана.
Но Филипп не смеялся.
Фаворит королевы Марии – Ридольфи[209] – в надежде на то, что, освободив ее, он на ней женится и станет королем Англии, явился к Филиппу, чтобы сговориться об убийстве Елизаветы. Но он оказался таким «болтунишкой», как назвал его в письме сам король, что его замыслы обсуждались вслух на антверпенской бирже. И убить королеву ему не удалось.
И Филипп не смеялся.
Позднее кровавый герцог по приказу короля направил в Англию двух убийц, потом еще двух. Все четверо угодили на виселицу.
И Филипп не смеялся.
И так Господь наказывал этого вампира за честолюбие, а между тем вампир уже представлял себе, как он отнимет у Марии Стюарт сына[210] и вдвоем с папой будет править Англией. И, видя, что благородная эта страна день ото дня становится влиятельнее и могущественнее, убийца злобствовал. Он не сводил с нее своих тусклых глаз и все думал, как бы ее раздавить, чтобы потом завладеть всем миром, истребить реформатов, особливо богатых, и прибрать к рукам их достояние.
Но он не смеялся.
И ему приносили мышей, домашних и полевых, в высоком железном ящике, с одной прозрачной стенкой. И он ставил ящик на огонь и с наслаждением смотрел и слушал, как несчастные зверьки мечутся, пищат, визжат, издыхают.
Но не смеялся.
Затем, бледный, с дрожью в руках, шел к принцессе Эболи и охватывал ее пламенем своего сладострастия, которое он разжигал соломой своей жестокости.
И не смеялся.
А принцесса Эболи не любила его и принимала только страха ради.
Стояла жара. Ни единого дуновения ветерка не долетало с тихого моря. Листья деревьев, росших вдоль канала в Дамме, едва-едва трепетали. Кузнечики притаились в луговой траве. А в полях церковные и монастырские батраки собирали для священников и аббатов тринадцатую долю урожая. С высокого огнедышащего голубого неба солнце изливало зной, и природа под его лучами дремала, словно нагая красавица в объятиях своего возлюбленного. Охотясь за мошкарой, гудевшей, точно вода в котле, над водой канала, в воздухе кувыркались карпы, а длиннокрылые, с вытянутым тельцем ласточки перехватывали у них добычу. От земли, колыхаясь и искрясь на солнце, поднимался теплый пар. Звонарь, ударяя в треснутый колокол, как в разбитый котел, возвещал с колокольни, что настал полдень и жнецам пора обедать. Женщины, воронкой приложив руки ко рту, окликали по именам своих мужей, братьев и сыновей: Ганс, Питер, Иоос. Над изгородью мелькали их красные наколки.
Ламме и Уленшпигель издалека завидели высокую четырехугольную громоздкую колокольню собора Богоматери.
– Там, сын мой, все твои горести и радости, – сказал Ламме.
Но Уленшпигель ничего ему не ответил.
– Скоро я увижу мой старый дом, а может, и жену, – продолжал Ламме.
Но Уленшпигель ничего ему не ответил.
– Сам ты, как видно, деревянный, а сердце у тебя каменное, – заметил Ламме. – Ничто на тебя не действует: ни то, что ты скоро увидишь места, где протекло твое детство, ни дорогие тени двух страдальцев – несчастного Клааса и несчастной Сооткин. Как же так? Ты и не грустишь и не радуешься? Кто же иссушил твое сердце? Ты погляди на меня: я в тревоге, в волнении, живот у меня трясется. Погляди на меня...
Тут Ламме вскинул глаза на Уленшпигеля и увидел, что тот побледнел, что голова у него свесилась на грудь, что губы у него дрожат и что он беззвучно рыдает.
И тогда Ламме примолк.
Так, не обменявшись ни единым словом, добрались они до Дамме и пошли по Цапельной улице, но там они никого не встретили – все попрятались от жары. У дверей домов, высунув язык, лежали на боку и позевывали собаки. Ламме и Уленшпигель прошли мимо ратуши, напротив которой был сожжен Клаас, и тут губы у Уленшпигеля задрожали еще сильнее, а слезы мгновенно высохли. Подойдя к дому Клааса, где жил теперь другой угольщик, Уленшпигель решил войти.
– Ты меня узнаешь? – обратился он к угольщику. – Можно мне здесь отдохнуть?
– Я тебя узнал, – молвил угольщик. – Ты сын мученика. Весь дом в твоем распоряжении.
Уленшпигель прошел в кухню, потом в комнату Клааса и Сооткин и дал волю слезам.
Когда же он вышел оттуда, угольщик ему сказал:
– Вот хлеб, сыр и пиво. Коли хочешь есть – ешь; коли хочешь пить – пей.
Уленшпигель знаком дал понять, что не хочет ни того, ни другого.
Затем приятели снова двинулись в путь: Ламме – восседая на осле, а Уленшпигель – ведя своего за недоуздок.
Приблизившись к лачужке Катлины, они привязали ослов и вошли. Попали они как раз к обеду. На столе стояло блюдо с вареными бобами в стручках и с бобами белыми. Катлина ела. Неле стояла около нее и собиралась налить ей подливы с уксусом, которую она только что сняла с огня.
Когда Уленшпигель вошел, Неле до того растерялась, что вылила всю подливу в Катлинину миску, а Катлина затрясла головой и то принималась подбирать ложкой бобы вокруг соусника, то била себя ею по лбу.
– Уберите огонь! Голова горит! – бессмысленно повторяла она.
Запах уксуса возбудил у Ламме аппетит.
Уленшпигель смотрел на Неле, и улыбка любви озарила великую его печаль.
А Неле, не долго думая, обвила ему шею руками. Она тоже как будто сошла с ума – плакала, смеялась и, залившись румянцем несказанного счастья, все лепетала:
– Тиль! Тиль!
Уленшпигель в восторге не сводил с нее глаз. Потом она разжала руки, отступила на шаг, вперила в Уленшпигеля радостный взор и вновь обвила ему шею руками. И так несколько раз подряд. Уленшпигель, ликуя, сжимал ее в объятиях до тех пор, пока она, обессилевшая и окончательно потеряв голову, не опустилась на скамью.
– Тиль! Тиль! Любимый мой! Наконец ты вернулся! – не стыдясь, повторяла Неле.
Ламме стоял у порога. Как скоро Неле немного успокоилась, она показала на него и спросила:
– Где я могла видеть этого толстяка?
– Это мой друг, – отвечал Уленшпигель. – Он разъезжает вместе со мной и ищет свою жену.
– Теперь я вспомнила, – обращаясь к Ламме, сказала Неле. – Ты жил на Цапельной улице. Я видела твою жену в Брюгге – ее там знают за женщину благочестивую и богобоязненную. Когда же я ее спросила, как у нее достало духу бросить мужа, она мне ответила так: «На то была воля Божья и такая была наложена на меня епитимья, так что жить я с ним больше не стану».
При этом известии Ламме огорчился, но тут же обратил взор на бобы с уксусом. А в поднебесье пели жаворонки, и разомлевшая природа безвольно отдавалась ласкам солнечных лучей. А Катлина ложкой подбирала со стола бобы и стручки вместе с подливкой.
Через дюны из Хейста в Кнокке шла среди бела дня пятнадцатилетняя девочка. Никто за нее не беспокоился, так как все знали, что оборотни и грешные души нападают по ночам. Девочка несла в сумочке сорок восемь солей серебром, что равнялось четырем золотым флоринам, которые ее мать Тория Питерсен, проживавшая в Хейсте, взяла взаймы, когда ей надо было что-то купить, у ее дяди Яна Рапена, проживавшего в Кнокке. Девочка по имени Беткин надела свое самое красивое платье и, очень довольная, пустилась в дорогу.
К вечеру девочка домой не вернулась – у матери заскребло было на сердце, но, решив, что дочка, верно, осталась ночевать у дяди, она успокоилась.
На другой день рыбаки, выходившие в море на лов рыбы, причалили к берегу и, вытащив лодку на песок, побросали рыбу в повозки, с тем чтобы продать ее оптом, прямо целыми повозками, на рынке в Хейсте. Поднимаясь в гору по усеянной ракушками дороге, они обнаружили на дюне мертвую девочку, совершенно раздетую, – воры не оставили на ней даже сорочки, – и пятна крови вокруг. Рыбаки приблизились и увидели на ее прокушенной шее следы длинных и острых зубов. Девочка лежала навзничь, глаза у нее были открыты и смотрели в небо, изо рта, тоже открытого, словно исходил предсмертный вопль.
Прикрыв тело девочки opperstkleed’oм[211] , рыбаки отнесли его в Хейст, в ратушу. Там скоро собрались старшины и лекарь, и лекарь объявил, что у обыкновенного волка таких зубов не бывает, что это зубы исполненного адской злобы weerwolf’a, оборотня, и что надо молить Бога, чтобы он избавил от него землю Фландрскую.
И тогда было повелено: во всем графстве, особенно в Дамме, Хейсте и Кнокке, служить молебны и читать особые молитвы.
И народ, громко вздыхая, теснился в храмах.
В хейстской церкви, где стоял гроб с телом девочки, ни мужчины, ни женщины не могли удержаться от слез при виде ее окровавленной искусанной шеи. А мать кричала на всю церковь: